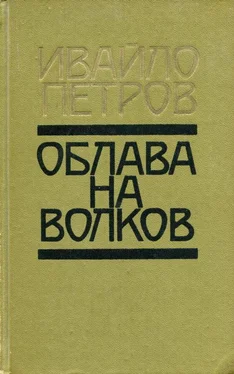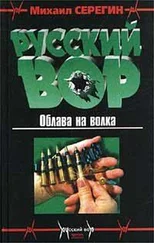Вьюга продолжала бушевать. Снег больше не шел, но сильный ветер сметал снег с сугробов, превращая их в клубы белой пыли. Когда ветер на миг стихал, пространство яснело, и Николин видел, как внизу, в Преисподней, снежная пыль оседает, а при следующем порыве ветра снова вздымается, как кипящее молоко, закрывая лог от его взгляда. Ноги у него еще не окоченели, потому что он топтался на толстом слое листвы, но короткий полушубок не закрывал бедер, и его пронизывало холодом. «Мела затопила в доме, вечером, как вернусь, подержу ноги в соленой воде, лягу и завтра буду здоров, — подумал он, и острая боль словно ножом полоснула его грудь. — Нет, нет, не думать сейчас о ней, но думать о том, что случилось несколько дней назад. Если это будет снова и снова повторяться у меня в голове, сердце не выдержит, я упаду и умру под снегом». И он неимоверными усилиями поворачивал свое воображение назад, к воспоминаниям прошлого, которые с годами потеряли остроту и теперь не причиняли ему страданий. И то, о чем он вспоминал, никогда еще не виделось ему так ясно, как сейчас, когда он стоял, ослепленный белым кружением, а может, потому он и видел все так ясно, что был слеп и смотрел в прошлое духовным взором. Он сознавал, что с ним случилось что-то необыкновенное, словно наступило некое просветление ума, как это бывает с глубоко верующими, на которых в какой-то миг или час снисходит прозрение. Лишь сейчас, посреди бушующей зимней стихии, он непостижимым образом вдруг понял и осмыслил все события, слова и разговоры между Деветаковым и его многочисленными гостями по самым разным поводам, которые он слышал и видел, но не мог тогда, по молодости лет и по невежеству, толком понять. Эти воспоминания спали в его памяти, как зерна в земле в течение долгой зимы, и теперь оживали, давали ростки, согретые его страданием, свежие и отчетливые до мельчайших подробностей. И вот благодаря просветлению, дарованному ему в этот тяжкий день, как благодать божья, он мог переноситься в прошлое и тем облегчать свою боль. Только одного события из прошлого он не понимал — почему покончил с собой Деветаков.
— Этот человек разговаривает с небом, — сказал Халил-эфенди, навсегда покидая поместье.
Сорокапятилетний Халил-эфенди был широкоплеч и крепок, как борец, и столь же мудр и справедлив, сколь строг и безжалостен по отношению к ленивым и недобросовестным работникам. Он прикреплял к лемехам плугов пломбы, и если тракторист пахал слишком мелко и норовил покончить со вспашкой побыстрее, то сгонял его с трактора, отвешивал несколько оплеух и навсегда выгонял из поместья. Одевался он по-европейски, говорил по-болгарски как болгарин, читал книги, а писал левой рукой. Счета поместья он вел, руководствуясь самой простой народной бухгалтерией — «чтоб концы с концами сошлись», а все бумаги ему заменяла одна конторская книга в твердом переплете. На левой странице он писал имя работника, на правой — кто сколько наработал и что ему полагается; в этой же книге было записано, что засеяно и что получено с земли, что продано и что осталось, а также какие были расходы и доходы от молотилки, скота и птицы. В Димитров день он открывал конторскую книгу и раздавал кому что полагалось, до последнего гроша, а потом еще и «добавку, от хозяина», смотря по заслугам работника, — килограмм-другой шерсти, одежду или меру зерна. Расчет производился на глазах у всех работников, чтоб потом никто не жаловался, будто его обошли.
Халил-эфенди покидал поместье, потому что поместье перестало существовать. Вернувшись из-за границы, Деветаков через месяц подарил триста декаров сельской общине и оставил себе только сто. Щедро расплатился с прислугой и освободил ее. Последним уходил Халил-эфенди, поскольку он должен был передать Деветакову свою конторскую книгу. Они попрощались, но не за руку, Халил-эфенди поклонился Деветакову и быстро вышел из комнаты. Николин проводил его до ворот, и тогда-то турок и сказал, что Деветаков разговаривает с небом. Николин не понял, что тот хотел этим сказать, и не посмел спросить, но по лицу его увидел, что турок не жалеет и не укоряет Деветакова за то, что он все раздаривает, а значит, не считает его свихнувшимся, как поговаривали в селе.
Так думал и Николин, поскольку господин его выглядел бодрым, веселым и душевно здоровым более чем когда-либо. Он и раньше работал в поле вместе с работниками, но только неделю или две, да и то как-то «по-барски», словно бы для развлечения или, как думал Николин, чтоб люди не сказали, будто он полеживает в тени, в то время как народ жарится на солнцепеке. Теперь похоже было, что он решил стать настоящим крестьянином, и вдвоем с Николином они не уходили с поля с ранней весны до поздней осени. Хотя они пахали с помощью трактора и молотили молотилкой, обработать вдвоем сто декаров было не так-то легко, да и другой работы было немало; две лошади, два десятка овец, птица тоже требовали забот. Солнце и ветер прокалили Деветакова, как черепицу, он окреп, был подвижен, словно юноша, общителен и приветлив, ел с аппетитом, а ночью спал крепко и непробудно. Так жили они до весны 1945 года.
Читать дальше