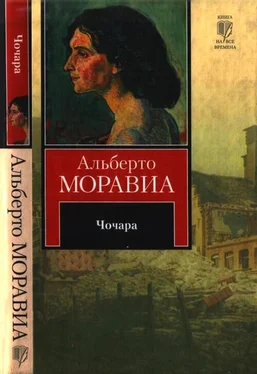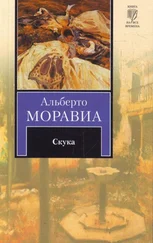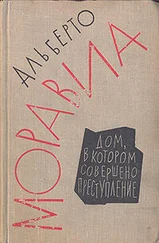Тогда Филиппо сказал примирительно и будто даже расстроившись, может, потому, что впервые с тех пор, как мы очутились в горах, сын признал его правоту:
— Если хочешь, давай говорить о другом… ты прав, к чему эти разговоры о еде? Поговорим лучше о другом.
Но Микеле внезапно опять вскипел и, мгновенно обернувшись к Филиппо, закричал:
— Прекрасно, но о чем же мы будем говорить? О том, что мы будем делать, когда придут англичане? О том, что всего будет вдоволь? О лавке? О вещах, которые у тебя украл твой кум? О чем же нам еще говорить, а?
Филиппо на этот раз промолчал, ведь именно об этом или о подобных вещах он лишь и мог говорить с Микеле, но об этом было уже все сказано и пересказано, а никаких других мыслей ему не приходило в голову. Высказавшись, Микеле ушел. Филиппо, когда убедился, что сын его не видит, сделал рукой жест, будто говоря: «Чудак он, что с него спросишь?» Все беженцы старались, как умели, утешить его:
— Твой сын, Филиппо, столько всего знает. Ты не зря потратил деньги на учение… вот что главное, а на остальное не стоит обращать внимания.
В тот же день Микеле, которого немножко мучила совесть, сказал нам:
— Отец прав, я не проявляю к нему должного уважения. Но это сильней меня — когда он начинает говорить о еде, я теряю голову.
Тогда я спросила его, почему это его так раздражает. Микеле, немного подумав, ответил:
— Если бы ты знала, что завтра смерть твоя придет, говорила бы ты о еде?
— Нет.
— Ну, а ведь с нами дело обстоит именно так: завтра или через много лет, это не важно, мы умрем. Так неужели в ожидании смерти мы должны говорить о пустяках и заниматься ими?
Я его не совсем поняла и спросила:
— Так о чем же мы тогда должны говорить?
Он задумался опять и потом сказал:
— К примеру сказать, о нашем нынешнем положении нам следовало бы поговорить и о причинах, заставивших нас очутиться здесь.
— А какие же это причины?
Он засмеялся и ответил:
— Каждый из нас должен найти их сам, по крайней мере для себя самого.
Тогда я сказала:
— Может, это и так, но твой отец говорит о еде только потому, что ее у нас нет и мы, так сказать, волей-неволей должны о ней думать.
На это Микеле, заканчивая разговор, проговорил:
— Может, и так, но горе в том, что отец всегда говорит о еде — даже когда ее всем хватает.
Между тем продуктов действительно не было, и теперь уже все старались спасти то немногое, что у них оставалось, поэтому, говоря с другими, каждый старался прежде всего уверить, что у него решительно ничего нет. Например, Филиппо, разговаривая с беженцами, которые были беднее его, изо дня в день твердил:
— Осталось у меня муки и фасоли всего на неделю… а потом авось Бог не оставит.
Впрочем, говорил он неправду — все знали, что у него дома еще стоит мешок с мукой и другой, поменьше, с фасолью, а он из страха, что у него украдут их, никого теперь не приглашал к себе и даже днем держал дверь на запоре, а выходя на «мачеру», клал ключ к себе в карман. Но что касается крестьян, то у них, бедняг, запасы действительно истощались, потому что в это время года они раньше обычно спускались в Террачину и покупали продукты, чтобы дотянуть до нового урожая. Но в этом году везде был голод, и в Террачине, пожалуй, было еще голоднее, чем у нас в Сант-Эуфемии. Кроме того, повсюду шныряли немцы, и как только им представлялся случай, они отнимали и увозили продукты, и вовсе не потому, что они, все как один, были грабители и злые люди, а потому, что шла война и они воевали, а воевать — это значит не только убивать, но и грабить.
К примеру сказать, в один из тех дней к нам в горы забрел немецкий солдат, безоружный, один-одинешенек, будто шел на прогулку. Был он брюнет с голубыми глазами, круглым добрым лицом, беспокойным и немного печальным взглядом; долго он ходил из хижины в хижину, разговаривая с крестьянами и беженцами. Видно было, что у него нет никаких дурных намерений, а напротив, он полон симпатии ко всем этим несчастным. Рассказал он, что до войны у себя дома в Германии был кузнецом; сказал также, что хорошо играл на аккордеоне. Тогда один из беженцев пошел за своим аккордеоном; немец уселся на камне и стал играть, окруженный детьми, и они все слушали его с открытым ртом. Играл он действительно хорошо и сыграл нам, между прочим, песенку, которая в то время, кажется, была в моде среди немецких солдат, — «Лили Марлен». Песенка эта совсем печальная, даже жалостная, и, слушая ее, я подумала, что ведь и немцы, которых Микеле так ненавидел и даже не считал за людей, тоже люди; у них дома жены и дети, и они тоже ненавидят войну, разлучившую их с семьями. После «Лили Марлен» он сыграл нам много других песен, и все они просто хватали задушу, а некоторые были до того сложные, будто это не песня, а настоящая музыка для концертов. Он же со склоненной над аккордеоном головой не отрывал глаз от клавишей, по которым легко бегали его пальцы, и производил впечатление человека серьезного и тихого; и будто ни к кому он не испытывал ненависти и, если бы мог, охотно отказался бы даже воевать. Поиграв нам почти целый час, этот симпатичный немец ушел, а на прощание даже погладил по головке ребятишек и сказал несколько добрых слов на своем ломаном итальянском языке:
Читать дальше