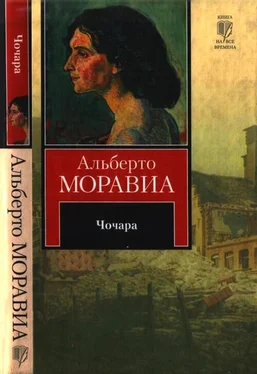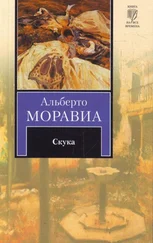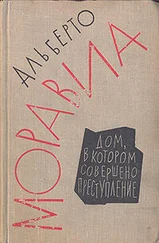Так вот, однажды утром Розетта вымылась, как обычно опрокинув себе на голову ведро воды, и затем с силой растирала себе тело полотенцем, стоя возле кровати и положив под ноги дощечку, чтобы ноги не испачкать на нашем грязном земляном полу. Тело у Розетты было крепкое, сильное, чего никогда нельзя было бы подумать, глядя на ее нежное тонкое личико с большими глазами, чуть-чуть удлиненным носом и пухлым ртом над маленьким, слабым подбородком, совсем как у овечки. Грудь у нее была небольшая, но хорошо развитая, как у женщины, которая уже стала матерью, налитая и белая, словно полная молока, с темными, торчащими вверх сосками, будто ищущими ротик рожденного ею младенца. Но живот у нее как у невинной девушки был гладкий, плоский, даже чуть вдавленный, так что темный густой пушок между ее сильными и округлыми бедрами выдавался вперед и казался хорошенькой подушечкой для булавок. Сзади она тоже была чудо как хороша, будто белая мраморная статуя, как те, что стоят в садах и парках Рима: полные и покатые плечи, длинная спина с крутым, как у молодой лошадки, изгибом, а под ним белые, круглые, упругие ягодицы, такие аппетитные и чистенькие, что так и хотелось осыпать их поцелуями, как делала я, когда ей было два годика. В общем, я всегда думала, что всякий мужчина, конечно, настоящий мужчина, при виде моей Розетты, когда она растирает полотенцем свою гибкую спину и при каждом движении вздрагивают ее красивые, упругие, высокие груди, всякий мужчина, говорю я, должен был бы хотя бы почувствовать волнение, покраснеть или побледнеть, в зависимости от своего темперамента. Голова у мужчины может быть занята чем угодно, но при виде нагой женщины мгновенно все мысли у него разлетаются, как стая вспугнутых выстрелом воробьев, и остается лишь неудержимое влечение мужчины к женщине. Так вот, не знаю уж как, однажды утром, когда Розетта, как я сказала, стояла голая в углу комнаты и вытиралась, пришел к нам Микеле и, не постучав, наполовину приоткрыл дверь. Сидела я у порога и могла бы, кажется, предупредить его: не входи, мол, Розетта моется. Сознаюсь, ничего я не имела против того, что он так внезапно к нам ворвался, мать ведь всегда гордится своей дочерью; в ту минуту моя материнская гордость была сильнее, чем удивление и досада. Я подумала: он ее увидит раздетой… Ну что ж, ведь он это сделал не нарочно… пусть увидит, как хороша моя Розетта. Подумав так, я ничего не сказала, а он, обманутый моим молчанием, широко распахнул дверь и вошел прямо в комнату, очутившись перед Розеттой, тщетно пытавшейся прикрыться полотенцем. Я наблюдала за ним. При виде голой Розетты он на мгновение остановился в нерешительности, будто даже в досаде, потом обернулся ко мне и поспешно сказал, что просит извинить его, может, он пришел слишком рано, но все же хочет сообщить нам важную новость — узнал он ее от одного парня из Понтекорво, который по горным селениям продает табак, — русские начали большое наступление, и немцы отходят по всему фронту. Потом добавил, что ему некогда и он зайдет к нам попозже, и ушел. В тот же день, улучив минутку, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, я, улыбаясь, сказала ему:
— Знаешь, Микеле, ты правда скроен не так, как все парни твоего возраста.
Он помрачнел и спросил:
— Почему ты так думаешь?
А я:
— Попалась тебе на глаза сегодня такая красавица, как Розетта, да еще голенькая, а ты только и думаешь, что о русских, о немцах да о войне и, можно сказать, даже ее не заметил.
Слова мои ему не понравились, и он, чуть не разозлившись, сказал:
— Что еще за чепуху ты городишь? Удивляюсь просто, как ты, мать, говоришь мне это.
Тогда я ему сказала:
— Каждому таракану его детеныш мил. Разве ты, Микеле, не знаешь этой пословицы? А потом, в чем дело? Ведь я не просила тебя приходить сегодня утром, а ты вошел, даже не постучавшись. Может, я бы даже рассердилась, если б ты стал очень пялить глаза на Розетту, но, поверь, в глубине души, именно потому, что я ее мать, мне это, пожалуй, польстило бы даже. А ты и не взглянул на нее, будто и не видел совсем.
Он улыбнулся как-то натянуто, а потом сказал:
— Для меня этих вещей не существует.
И это был первый и последний раз, что я с ним говорила о таких вещах.
Вскоре после посещения Тонто с его зловещими рассказами о немецких облавах полили дожди. А весь октябрь простояла прекрасная погода, без малейшего ветра, небо было ясное, воздух свежий, чистый. Когда мы жили там, в горах, в такую погоду, чтобы скоротать дни, казавшиеся нам совершенно нескончаемыми, мы могли хотя бы пойти погулять или же попросту посидеть на воздухе, любуясь открывавшимся видом на Фонди. Но однажды погода внезапно переменилась: встав поутру, мы почувствовали, что парит, а потом увидели, что море затянуто пеленой, а небо покрыто тяжелыми темными тучами, нависшими над свинцовым морем, будто пар над кастрюлей с бурлящим кипятком. Не прошло и нескольких часов, как тучи, подгоняемые слабым влажным ветром, дувшим с моря, закрыли все небо. Беженцы отлично понимали, что это значит, они ведь родились в здешних местах, и сказали нам, что тучи эти дождевые и дожди будут лить не переставая, до тех пор пока сирокко, дующий с моря, не сменится трамонтаной — ветром с гор. Так действительно и было: около полудня начали падать первые капли, и мы забились в нашу комнатку, ожидая, когда дождь перестанет. Но как бы не так: дождь лил весь день и всю ночь, а на следующее утро море стало еще темнее и все небо сплошь затянуло черными тучами, и облака клубились на горах, а снизу, из долины, вместе с порывами сырого ветра ползли все новые набухшие влагой облака. После небольшой передышки снова полил дождь и с тех пор, уж не знаю сколько дней, наверно, более месяца, не переставал ни днем ни ночью.
Читать дальше