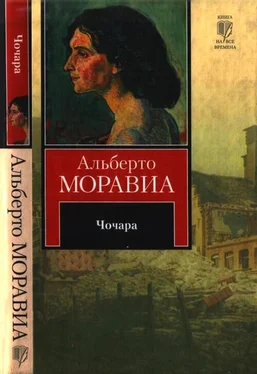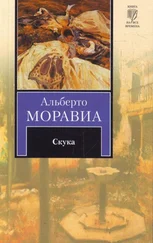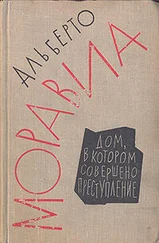Пошли мы сначала по равнине и обогнули подножие одной из гор, а затем стали подниматься по горной тропе, ответвлявшейся от проезжей дороги. Карабкаясь меж зарослей колючего кустарника по каменистому, пыльному склону, мы вскоре очутились в зажатой двумя горами узкой и обрывистой долине, напоминавшей перевернутую воронку; она поднималась вверх, все более сужаясь, и наконец, как нам удалось разглядеть, высоко-высоко, под самым небом, превращалась в тесный проход между двумя скалистыми вершинами. Поверите ли? Как только ступила я ногой на камни горной тропки, пыльной, изрытой ямами, усеянной сухим пометом, словно ощутила какую-то радость.
Я крестьянка, родилась в горах и до шестнадцати лет немало исходила таких горных тропок, как эта; и теперь, почувствовав ее вновь под ногами, я подумала, что вот наконец обрела что-то родное; пусть уже не найду здесь своих родителей, но по крайней мере я опять в тех местах, где они меня вырастили. До сих пор, подумала я, мы были на равнине, а тамошние люди лживы, нечестны, грязны и вероломны; но теперь я взбиралась по этой дорогой моему сердцу горной тропе, усыпанной камнями, навозом, пыльной и обрывистой, и теперь со мной вновь мои горы и близкие мне люди. Ничего я не стала говорить Томмазино; не понял бы он меня, ведь и сам он со своим характерным лицом и жаждой наживы был настоящим жителем равнины. Но, проходя мимо красивой живой изгороди, вдоль которой росли бесчисленные цикламены, вполголоса я сказала Розетте:
— Нарви цикламенов и сплети себе из них венок, они очень тебе к лицу.
Сказала и вспомнила, что так всегда делала и я, когда была молодой девушкой: собирала цикламены, которые мы в Чочарии, не знаю почему, называем «скоччапиньятте», делала из них букетик, втыкала его себе в волосы над ухом, и мне казалось, что я становилась вдвое красивей. Розетта последовала моему совету, и когда мы на минутку остановились передохнуть, нарвала один букетик для себя, а другой для меня, и мы воткнули их себе в волосы. Смеясь, сказала я глядевшему на нас с изумлением Томмазино:
— Это мы прихорашиваемся к новоселью.
Но он даже не улыбнулся: уставился глазами в пространство, как всегда делал, прикидывая в уме, что ему продать или купить, прибыль будет или убыток. Настоящий спекулянт, да вдобавок еще с равнины.
Тропинка сначала привела нас к группе домов, стоящих у входа в долину, а потом свернула вправо и пошла сквозь заросли вдоль склона горы. Поднималась она вверх зигзагами, постепенно, совсем незаметно, лишь иногда то там, то здесь подъем становился круче; не чувствовала я ни малейшей усталости, потому что у меня с рождения, можно сказать, ноги привычные к лазанью, и теперь они сразу же, словно сами собой, зашагали медленно и размеренно, как принято в горах; так что я не задыхалась даже на кручах, между тем Розетта, уроженка Рима, и Томмазино, житель равнины, наоборот, то и дело останавливались, чтобы перевести дух. По мере того как тропа поднималась все выше, перед нами открывался вид на долину или, вернее сказать, теснину; долиной ее нельзя было назвать, уж очень была узкой; просто гигантская лестница, ступени которой становились все уже, чем ближе к вершине. Ступени эти, в виде террас, были посевами. Мы в Чочарии зовем их «мачеры» — множество длинных и узких полос плодородной земли, поддерживаемых невысокой каменной стеной сухой кладки. На полосах этих растет всего понемногу; пшеница, картофель, кукуруза, разные овощи, лен, не говоря уже о фруктовых деревьях, разбросанных здесь и там среди посевов. Хорошо знала я эти «мачеры»; работала я на них девушкой, как вьючная скотина таскала на голове корзины с камнями, из которых складывали подпорные стенки, и привыкла карабкаться по тропинкам и лесенкам, что соединяют между собой «мачеры». Стоят они пота и крови, эти «мачеры»; крестьянин, чтобы построить их, должен расчистить горный склон, выкорчевать кустарники, выкопать большие камни и таскать в гору на своем горбе не только камень для стенок, но даже землю. Однако, раз «мачера» возделана, она прокормит крестьянина, давая ему все необходимое для жизни, так что, можно сказать, ему не придется ничего покупать на стороне.
Сколько времени мы шли по тропинке, уж не знаю: петляя, она довольно долго лезла вверх по горному склону слева от долины, а потом переходила на другую сторону и снова забирала в гору, но уже справа. Перед нами теперь открылась вся долина. Она поднималась к самому небу: там, где кончалась лестница «мачер», темнела полоса зарослей, еще дальше заросли редели и виднелись одиноко растущие деревья на выжженном солнцем склоне, а потом и деревьев не стало, и лишь груды белых камней поднимались до самого голубого неба. Под самым гребнем горы, словно хохолок, торчал поросший зеленью выступ, а сквозь зелень проглядывали красноватые скалы. Томмазино нам сказал, что эти скалы закрывают вход в глубокую пещеру, в которой много лет назад прятался знаменитый пастух из Фонди. Он живьем сжег в хижине свою невесту, а потом бежал на другую сторону горы, женился там и имел много детей и внуков. Когда же его наконец нашли, он был почтенным старцем с седой бородой, отцом, свекром и дедом, и все в округе его любили и уважали. Томмазино добавил, что за этим гребнем начинаются горы Чочарии и среди них гора Фей. Тут вспомнила я, что название этой горы, когда я была девочкой, всегда заставляло меня задумываться, и я не раз спрашивала у матери, правда ли, что там живут феи, и она мне всегда отвечала, что фей там нет, а почему так гора называется, знать не знает; но я ей никогда не верила, и даже теперь, когда я сама взрослая и дочь у меня большая, меня одолевало искушение спросить Томмазино, почему эта гора так называется и действительно ли на ней в былые времена феи жили.
Читать дальше