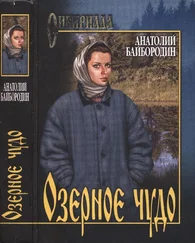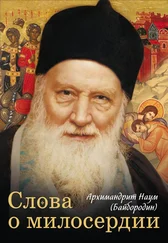Но вот, треща сучками по-медвежьи, вывалился из кустов Хитрый Митрий с топором.
— Я там сделал затеси на лесинах, которые валить будем.
— Вот и Митрий-помочанин в помочи нам, – пояснил отец Ванюшке. – И ему на баню навалим.
— Там еще Кенка на таборе. Будете на пару сучки обрубать, — Хитрый Митрий осекся, испуганно округлил глаза и задом, задом провалился в кусты. А Ванюшка услышал за спиной горьковатый, со вздохами, усталый голос:
— Опять ты, Петр Калистратыч, за старое взялся. Без разрешения лес валишь.
Ванюшка оборачивается и видит отца, сидящего на кобыленке коки Вани; видит, и глазам своим не верит, потому как перед ним с пилой в руках посиживает на сваленной лесине тоже отец. Ванюшка испуганно смотрит на того и на другого — что за наваждение?! Два отца! И сердито говорят промеж себя.
— Да пока, едрена вошь, разрешение получишь, так спина от поклонов сломается, — отвечает отец с пилой и опять опахивает сына водочным перегаром. — А потом, тити-мити надо, а у нас, сам знаш, в кармане-то кукиш, а на кукиш, паря, много не купишь. А и купишь, дак не облупишь.
— Ты мне зубы не заговаривай.
— Да Митрий сомустил — напарник ему нужен.
— Ну, с Митрием-то отдельный будет разговор, ты на него не сваливай… Вот у Митрия бы денег занял и выкупил в лесхозе разрешение… У Хитрого мошна крепка.
— О-ой, кого говоришь?! У Хитрого Митрия бы занял… Да у него в Крещенье льда не выпросишь, за копейку удушится.
— Во, во, живем как нехристи…
— Да ты не жалей, Петр Калистратыч, от нашей порубки леса не убудет.
— Не в том, паря, дело, убудет, не убудет. А всё ты, Петр Калистратыч, норовишь словчить, обманом взять, в обход закона.
— С каких таких пор ты законником стал?! Законы!.. Не про нас они нынче законы, не про мужиков. Кругом как есть зажали.
— Может, ты и верно говоришь, Петр Калистратыч, да только воровать-то все равно не надо. Сам тащишь и парнишку подучаш. А я тебе по каку холеру ружье дал?! — спрашивает Ванюшку отец, сидящий на Карюхе. — И ты, Петр Калистратыч, даже не оправдывайся. Привадился все исподтихоря да под шумок, а по совести не можешь?
— А ты чего парня науськиваш на отца родного? Еще и ружье дал. На, на!.. стреляй в отца! — отец отбросил пилу, отчего она испуганно взвизгнула, стрельнула острым лучиком прямо в Ванюшкины глаза и утонула в голубичнике. — На, на, стреляй, падла! — отец рвет рубаху на груди, так что с треском отлетают пуговки. — Стреляй, ежели отца родного не жаль.
Ванюшка с трудом отводит взгляд от отцовских глаз, засасывающих в себя мольбой, ощущает ружье и чует, как в него от ружья мышью крадется сырой, могильный холод, подбираясь к самому сердцу.
— Кругом все рубят, а я чо, рыжий?!
— Не вали с больной головы на здоровую. А ты, сынок, чего стоишь, как жердь проглотил?! Под ружье его бери. Поведем в деревню, в милицию сдадим. Стой!.. Стой!.. Ты куда, паря! Стой! Кому говорю.
Ванюшка видит, что отец, пригнувшись, огибая деревья, бежит в глубь леса; бежит, зажав голову руками, как однажды, когда, выведенный из терпения, Семкин звонко прилепил ему в ухо.
— Стреляй, Ванька, стреляй, — слышит Ванюшка отцовский голос, быстро снимает с плеча дробовку, но тут же, стиснув зубы, весь выгнувшись, брезгливо отталкивает от себя ружье, оно нехотя, медленно, медленно падает в чушачий багульник, синеющий кустиками голубицы, и вдруг гулко стреляет. И тут же, дернувшись, вскинув руками, валится набок отец.
И вот уже сгинули в чащобе отцы — и тот, и другой, – а вырастает из выстрела, слышится вначале отдаленный, потом — все ближе и ближе мерзлый стук топоров, и, сломленно ойкая, ухают на весь лес падающие сосны и лиственницы. Кругом белым-бело, точно при застывшем свете молнии, вспыхнувшей и негаснущей; и частый стук окружает и окружает Ванюшку, и звяк топорный уже похож на железный грохот, будто сквозь бледность прямо на него, как в кино, летит тупое, закопченное рыло паровоза; Ванюшке уже кажется, что рубят по нему самому, потому что все тело содрогается от боли и внутреннего жара, и он с криком, ничего не видя перед собой, кидается напролом через вырубленную деляну. Рядом, вскидывая задние ноги, натужно задрав хвост, скачет Майка. Ванюшка бежит и чует, что сучит ногами на одном месте, и, зажав голову руками по-отцовски, падает в топкий чушачий багульник, кричит, что есть мочи, но крик его не может пробиться через железный грохот. А прямо на него, почти доставая шумящими и свистящими вершинами, валится и валится лес, и земля горячеет, трясется, как в предсмертном припадке, исходит гулом, и откуда-то из разверзшейся прорвы клубится вонючая гарь. Боковым зрением он видит, что, коротко взмыкнув, подсеклась под упавшей лесиной Майка; прохрипела, заломив шею, выкатив побелевшие глаза, и, несколько раз передернувшись, копытом содрав мох до черной земли, притихла. Поставив ногу на ее вздутый живот, красуется посреди вырубки толстый, приземистый, иссиня-черный человек — да и не человек, а нежить, как испуганно прошептала бы мать и быстро перекрестилась: сгинь, сгинь, вражья сила!.. Господи, Иисусе Христе, спаси и сохрани!.. Про нежить синюю Ванюшка баял в «страшных ночных байках» — там они пьют человечью кровь; нежить рисовал, сидящими на облаке и ловящими людей на вкусные, заманистые наживки. С печально-темными, почти черными, большими глазами, с ласковой и немного брезгливой улыбкой на пухлых, будто вывернутых наружу губах, — нежить подманивает Ванюшку пальцем и обволакивающим, нежно зовущим взглядом. Рядом с нежитью Хитрый Митрий и отец, вроде прислужников, за ними мужики с топорами и пилами — лица знакомые, деревенские, но сейчас неузнаваемо отчужденные, пьяно и куражливо перекошенные, с красными, налитыми кровью глазами. Нежить щелкает пальцем, и мужики с ходу начинают пилить и рубить лес, и по вырубке, точно по дороге уходящей во мрак, катаются не то смех, не то рыдания, всплесками похожие на раскаленную ошалевшую музыку. Нежить, по-паучьи раскорячивая тонкие кривые ноги, надвигается на Ванюшку, и парнишка, барахтаясь, сотрясаясь от страха, пробует ползти через густые заросли чушачьего багульника и кричит, теперь уже в полный голос:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)