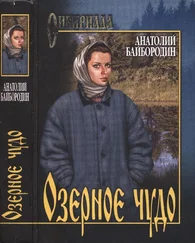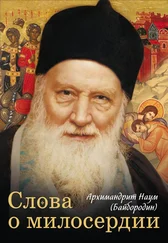В речку следом за Майкой забредают коровы, пьют, размеренно охлестывая себя мокрыми хвостами, отпугивая надоевших паутов и, напившись, глядят в речку, то ли завороженные течью воды или ползущими среди галечника песчаными струйками и мелькающими в этих струйках гальянами, то ли засмотревшись на свои отраженья в реке; потом стряхнув сонное оцепенение, так что с мокрых губ летят брызги, бредут по перекату на другой берег.
— Таньк!.. Беги заверни — на покос пошли! — быстро шепчет Ванюшка, боясь, что полный голос распугает рыбу.—Беги, беги! А то опять папка будет ругаться.
— Тебе велели смотреть, сам и беги. Нашел дурочку. А я порыбачу.
Ванюшка сердито и просяще смотрит на нее, во взгляде его столько неожиданно проснувшейся мужской власти, что Танька тут же вскидывается с корточек и, подхватив коромысло, с криком бежит к стаду.
А крупный гальян, едва подгребя плавничками, вороша мелконький песок и редкие подводные былки, приближается к банке, и Ванюшка опять манит его потрескивающим, пересохшим шепотком, азартно облизывая обметанные жаром губы. И-и-и, вот он!.. есть!.. — вода взметывается, серебристые брызги, дав короткую радужку, повисают над речкой, банка шлепается в осоку. Тут же прибегает Танька и, визжа, хлопая в ладоши, приплясывает то на одной, то на другой ноге, кружится, пытаясь разглядеть гальяна в густой и высокой траве, но Ванюшка прыжком опережает ее и падает животом на добычу. Показавшийся в воде здоровенным, на воздухе гальян оказывается задохликом чуть больше пальца. Ну, ничего, на безрыбье и это рыба, — размышляет Ванюшка, цепляя его на тальниковый кукан, который, связав кольцом, крепит за корягу и опускает в речку.
Таньке вскоре надоедает рыбалка — девчонка она и есть девчонка, тем более брат лишь раз и дал подержать поводок и выдернуть трех гальянчиков, — и она, набрав воды, показав напоследок язык, уходит в сторожку коки Вани, где в это время посиживает с ребятишками старая бурятка, теща коки Вани.
Закусив размоченной в Уде лепешкой, Ванюшка рыбачит до самого темна.
— Ой да ты, сына, какой у нас добычливай-то, а! — умильно склонив голову на плечо, всплескивает мать руками, когда сын является с полным куканом гальянчиков и прямо с порога велит варить уху. — Да хрушкая все какая, и в чугунку не влезет, тут надо целую жаровню,—приговаривает мать.
— Рыба-ак, елки зелены! — подхватывает кока Ваня.
— И не говорь, брат.
— Есть, видно, талан. В отца пошел. Отец – рыбак, и сын в воду смотрит… Мы с Петром как-то на Большой Еравне, подле Гарама окуней удили… прошлым летом, кажись… ну и, паря, чо, елки-моталки, я, значит, сижу, и у меня хоть бы шелохнуло, удочки как мертвые на борту лежат, а отец ваш тянет да тянет. Меня аж завидки берут. Я перебираюсь по лодке ближе к корме и свою удочку возле отцовской кидаю. И всё, елки, не тянет и не тянет, хошь ревом реви. И рядом-то лодки, и мужики тоже сидят кемарят, ловят в час по чайной ложке. Некоторые, елки, давай поближе к нам подплывать, — видят же, что отец-то ваш одного за другим выворачиват. До обеда, кажись, просидели, у него ведро с верхом, а у меня едва дно прикрыто, — с десяток окуней поймал. Во каки дела… Не-е, паря, кто вашего отца переудит, тот ишо не родился. Вот разве что Ванюшка…
7
Тихо вечереет, меркнут желтоватые стены избушки, в глубокие пазы насачивается загустевшая тень, резче обозначая толстые, нетесаные венцы; всё семейство после вечерней гребли сидит за дощатым столом, потягивая зеленый чаек, забеленный козьим молоком, который Дулма подливает и подливает в толстые фарфоровые чашки, черпая его из ведерного котла. Остатний вечерний свет теплится на плосковатом лице Дулмы, загадочно черня и без того черные, большие глаза, немного вытянутые и вздернутые к вискам. Она все время молчит. Ванюшка как будто и не слышал ее голоса, и было непонятно, что ее радует в жизни, что печалит, — лицо занемело. Но кажется, что вот сейчас она додумает свою протяжную думу, прояснеет лицом, улыбнется всем виновато и заговорит о простом, житейском; но, видно, думушке ее еще далеко было до края. Хотя, конечно, можно и без слов понять ее.
Первого мужика Дулмы, известного на весь Еравнинский аймак охотника, спящим в балагане из елового лапника, задрал мстительный медведь, — бахалдэ, как его на бурятский лад звали и русские, – а Дулма, едва вызревшая женка (муж был постарше лет на десять), оставшись с двумя малыми на руках, смотрела теперь на жизнь, текущую по-таежному чуть приметно, с довременной мудрой и молчаливой снисходительностью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)