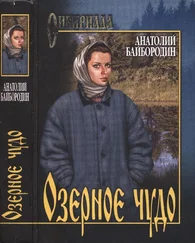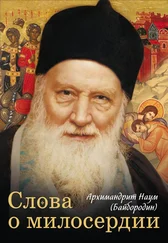— Скучно одному?
— Не-е… — сонно улыбается парнишка и машет рукой. — Ты пасись, паси-ись.
И так ему легко и надежно, что кругом тихо-тихо и ни души, что он один-одинешенек на весь лес, а может — и весь белый свет, и от такого, навеянного рекой, травами, тихим небом, ласкового покоя у него истомно кружится голова, он пуще жмурится и начинает засыпать. Над лицом, приглаженным дрёмой, пухло-розовым, позванивает тронутый пчелой сиреневый, в крапинку цветочек — кукушкин чирок; где-то у самого уха, баюкая, стрекочет кузнечик-скачок; от желтовато-белого тумана цветущей таволги доносится чуть слышная горечь, а ирниковая мелкая листва пошумливает и пошумливает над ним, напевает, как напевала мать над его зыбкой:
— Ай, люли, лю-ули-и, д-лю-уленьки-и… Наш Ваню-уша бу-удет спа-ать, д-я-а ево-о бу-уд-у кача-ать…
Но тут Ванюшка слышит над собой лошадиное всхрапывание, позвякивание удил, лицо его окутывает жаркое, щекотящее дыхание, и он открывает глаза, вытянувшись всем телом в сладкой зевоте. Прямо на него смотрит лошадь большущими глазищами, в которых он видит два своих лица, расплывшихся кривыми лепешками, но это не пугает Ванюшку — он узнает Карюху коки Вани, улыбается ей, отчего та, сразу же успокоившись, начинает хрумкать траву, фыркая губами и отдувая с травы мошек. А над Ванюшкой низко склоняется кока Ваня, присев на корточки и уперев руки в колени.
— Ты пошто это, крестничек, елки зелены, до дому-то не дошел? Али из силов выбился?.. А мы, елки-моталки, глядим с ребятишками: вроде, кто-то с хребта спускается, к речке привалил. Корову, вроде, гонит… А потом нету и нету. Чо-то чернется — думаю, ты стоишь. А потом девки, востроглазые же, присмотрелись — водерень торчит, корень над землей задрался, но издалека-то чисто мужик у дороги присел отпыхаться… А ты вон оно чо, в ирничке прилег. Ну, поехали, а то девчушки уж все глаза насквозь проглядели, ждут, не дождутся, когда дружок ихний явится, — кока Ваня подсаживает Ванюшку впереди себя на низенькую, карюю кобыленку. — А я уж наладился ехать по тебя, Карюху заседлал, а ты вон оно чо, сам привалил… Младён да умён…
1
Иван Житихин, после горьких материных родин ставший Ванюшке крестным отцом, лесничил на дальнем кордоне у отрогов Яблонова хребта, и жил с семьей в вершине речки Уды, что в полсолнца тихого конного хода от деревни по проселку вдоль старомосковского, еще царского тракта, давно брошенного, притаенного в дебрях сиреневого иван-чая, шиповника, ерника и осинника, с обрушенными мостами и полусгнившими бревенчатыми настилами по сырым и топким гатям. Ванюшка, когда уже отец лесничал на удинском кордоне, играл с сестрами Танькой и Веркой на этом старинном тракте, изображая царя: скачет он верхом на палочке, стриженная голова увенчана короной – венком из березовых листьев, а сестры, деревенские, мужички, низко кланяются царю Ванюшке, и тот милостиво одаривает их царским гостинцем – спелой земляникой.
Работавший заготовителем в «Заготконторе», отсидел Иван два года, можно сказать, за Петра Краснобаева и его тогдашнего товарища, начальника конторы Исая Самуилыча Лейбмана, и хотя тяжело пережил беду, какая свалилась на его голову непутную, но зла не помнил. На отца сердца не держал — сам грешен, у самого рыльце в пушку, — пил задарма, гулял. Конечно, вышло как в поговорке: Исай с Петром украли поросенка, указали на гусенка, но уж как вышло, так и вышло; после Иван не вспоминал ни «Заготконтору», ни годы тюремной отсидки, словно выкорчевал из души былое грешное и спалил на одиноком таежном костре. Отсидел, вернулся, потерся в деревне, да и укочевал на лесной кордон. Одна печаль – хворую жену схоронил.
Наезжая в деревню по харчи, Иван, жалеющий Аксинью, сестру свою, и с потешной важностью относящийся к своему крестному отцовству, сроду не забывал подвернуть в краснобаевский двор. Для Ванюшки солнце пасхально играло даже посреди крещенской стужи, когда в краснобаевскую избу шумно вваливался кока Ваня. Привозил сродник удинских ленков и хариусов, а девчушкам, и наособину малому крестничку, — заячьи гостинцы: то одарит туеском земляники, коей жалко лакомиться — столь душиста и приглядиста, нюхать бы да зариться умильным глазом, – то накопает луковиц лесной саранки, а то сунет затейливую деревянную игрушку. Видимо, тянучими зимними вечерами, да и летом урывая часок-другой от страды, резал из податливой осины полуконей-полулюдей – Полканов, как прознал Ванюшка позже, – либо диво-птиц с бабьими, лупоглазыми лицами, а чаще лешаков – сам с вершок, бородища до ног – и прочую таежную чудь. А то, бывало, привезет тальниковых свистулек берестяной короб, так даже и сёмкинской и будаевской братве отвалится, и свист потом гуляет на всю улицу Озерную. И благо, что ребятишки обычно теряют свистульки или выменивают их на другую улицу, а то бы ни сёмкинским, ни краснобаевским, ни будаевским соседям долго не было б житья от разбойничьего посвиста. Отец, у которого и без того частенько ныла похмельная голова, от свиста и вовсе раскалывалась пополам, обложил Ивана забористыми матерками и велел больше не возил этого барахла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)