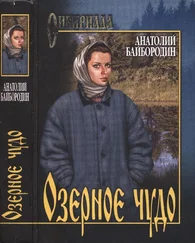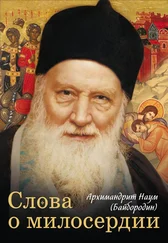Сейчас же ее виноватый взгляд ясно и без слов говорил: ну, куда же мне, друг ситцевый, бежать-то, задрав хвост?! Чай не телка годовалая. Я уж, милок, потихоньку-полегоньку, а уж ты, сына, не серчай на старую, потерпи маленько… И так же неспешно валила дальше, похрустывая, пощелкивая суставами и копытами раскачивая выпирающим наружу костяком, — жидка июньская трава, не нагуляла тело. Ванюшка смекнул, что талина в его руках слабо кусается, и, забегая сбоку, но стараясь не видеть Майкиных глаз, начал целить по ушам, по шее, чтоб не вертела, старая, головой, не считала ворон; при этом властно покрикивал:
— Ха!.. ха! ха!.. шевелись, копучая. Не можешь уж сама к поскотине уйти.
В последнее время мать заставляла выгонять корову за деревню, потому что Майка вместо того, чтобы пастись по зеленеющим угорышам, шаталась по деревенским улицам и проулкам, выедая быльё на пустырях, возле тынов и частоколов, а то и забираясь в слабо огороженные телятники. И кто-то ее, похоже, ладно проучил — однажды корова пришла с порванной шкурой, с еще незасохшей раной, над которой роем вилась мухота. Смазала мать рану дегтярной мазью и с той поры велела сыну прогонять корову к поскотине.
Под нахлестами талины и окриками Майка вся передергивалась, по коже пробегали быстрые, нервные волны, но шагу почти не прибавляла, — встрепенется, мотнет головой в сторону погонщика и даже немножко пробежит, а потом опять бредет, вроде засыпая на ходу. Ванюшка накалялся в злости, даже разок по-отцовски завернул матюжком, — очень уж хотелось поскорее вернуться домой, где, может быть, тетя Малина заставит мать выдать ему брюки; да и саму тетю хотелось увидеть. С приездом молодых для Ванюшки весь белый свет сошелся клином на тете Малине.
А было времечко, когда он часами просиживал возле лежащей Майки, скармливая крупно дробленную соль с ладошки, пока коровий язык не шоркнет по ней обжигающе, точно теркой; потом брал коровье ухо обеими руками и шептал в его дремучую, заросшую седым волосом глубь, вышептывая то, что ни матери с отцом, ни дружкам и близким вымолвить не мог; и если бы не такие разговоры шепотком, под сочувственное киванье Майкиной головы, многое ему в жизни было бы тяжелей пережить, чтобы душа, как вешняя степная былка, едва проклюнувшись из тверди, стеснительно зазеленев, не спеклась бы, не съежилась белесо под нещадно палящим солнцем. Как дождь степной былке, так и человеку, и особенно маленькому, потребна жалость, хотя те же ребятишки вроде и отпихиваются от нее. Нет, это только кажется, что она им не нужна, им она еще нужнее, чем большим.
Так утешительно, так спасительно хотя бы пожаловаться кому-то — только бы, дай Бог, было кому, кто потом не обратит твои же откровения, твое же сгущенное покаянье против тебя самого; и человек, и малый, и старый, поплакавшись кому-то, отмочив затвердевшую было душу, снова готов к бедам и напастям, чтобы после них снова жаловаться, просить жалости, точно милостыню, и так до жизненного края и скончания века.
Не одну темную ночку провел Ванюшка подле коровы, уснув или под ее вздымающимся и опадающим боком, или в яслях — невысоких жердевых закромах, куда, чтоб корова не затоптала, кидают сено. Засыпал под теплое коровье дыхание, и чутко сторожила его сон Майка, доверяться которой, как позже доспел Ванюшка, было куда надежнее, чем самому заветному дружку. Ванюшка, несмотря на малые лета, ведал уже, спробовал на своей шкуре, каким боком выходят откровенья. Верно добрые люди говорят: пока тайна в тебе, ты ей хозяин-барин — куда хочу, туда ее верчу, а как выпустил на волю, — она твоя хозяйка, она из тебя начнет веревки вить. Вот почему уже ни одну Ванюшкину тайну схоронила в себе корова Майка и потому отец иногда дразнил своего заскребыша: Иван — коровий сын.
1
Он припозднил родиться и появился на белый свет, будто для последней закатной утехи пожилым родителям, сотворившим его послевоенными хмельными ночами, на победных радостях достав из себя остатную моченьку. Хотя какую же остатную, если за шесть послевоенных лет семья Краснобаевых прибавилась сразу на троих?! Вернулся отец с войны в конце сорок седьмого, тут в добавок к пятерым довоенным пошли один за другим покребыши, поздонушки.
Отцу и матери закатило уже за сорок; отец успел на жизненных и фронтовых проселках растерять добрую половину зубов и до срока поседеть, а мать, одинадцать раз отходив с брюхом, троих похоронив малютками, высохла, сгорбилась, хотя зубы на диво всем сберегла в целости и сохранности — может, от того, что сызмалу жевала серу лиственничную, изо рта не выпускала и шару — испитой чай-заварку; так же вот и глаза не растеряли былую остроту — нитку в иогльное ушко до глубокой старости всучивала сама, без подмоги остроглазых внуков, а уж на волосы, густо-дымные, до пояса, коль пустит на волю, могла позариться иная молодайка, едва наскребающая на затылке кукиш жиденькой кудели. Хотя мать и не жалела себя в работушке, судьба, похоже, берегла ее, скупо тратила, даруя силы поднять на ноги восьмерых ребят, потом еще вынянчить гомонливый табор внучат, вот разве что доля присушила с годами, пригнула к земле-матушке в благодарном и кротком поклоне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)