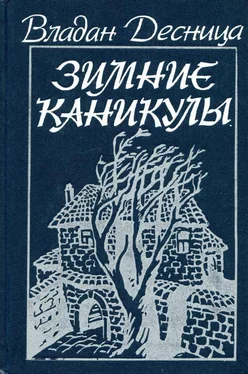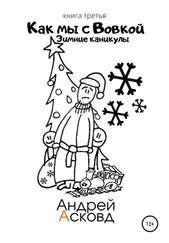От брата Кекина шьор Карло получил благоприятный в отношении Лины ответ: «Пусть приезжает, что будет с нами, то станется и с нею!..» Так что и она вместе с Доннерами ехала до Триеста. Анита целый день занималась сборами — приводила в порядок и пополняла гардероб дочери, перешивала для нее свое темное вечернее платье.
После полудня ветер утих. На солнышке под Ичановым домом стало почти тепло. Лизетта сидела у окошка и вязала. Во дворе было спокойно; в углу, под старой корзиной для муста, кудахтали куры; под окошком Капелюшечка ворковала в своей коляске, на солнышке.
Лизетта вязала. Мысли ее блуждали, крыльями своими касаясь воспоминаний детства, девичества, первых лет замужества, разных ситуаций, пережитых здесь, в Смилевцах, а потом улетали в неведомый воображаемый край, к увиденной лишь мечтою, но никогда в реальности, стране, куда они собирались ехать. Эта незнакомая страна влечет ее к себе каким-то ностальгическим даже чувством, раскрывается взору светлыми пейзажами, солнечными видами. Но секунду спустя сердце начинает болеть, точно от укола ледяной иглы, и пейзажи эти затягивает серая мгла, виды незаметно бледнеют, и перед глазами предстает, словно воочию, их прибытие в какой-то странный, туманный город, накрытый инеем мелкого дождичка, полный грохота огромных портовых кранов, чьи верхушки уходят в облачное небо. Но и это быстро проходит, и вновь солнце озаряет пестрые пейзажи и ликующие сады. К счастью, сейчас стоит чудесный день, а чудесным днем все горизонты яснее и чужие края привлекательнее.
Она пыталась подавить нетерпение, с каким ожидала возвращения Эрнесто, — наверняка решены и последние формальности. И рождалось иное, новое тревожное чувство: лихорадка путешественника.
Она отложила вязанье и пошла в горницу приготовить завтрак для Капелюшечки. Господи, сколько приходится ждать, пока на этом несчастном огне закипит кружка молока! Да и молоко какое-то скверное, любит играть с нами в свою любимую игру — целиком захватит наше внимание, а потом мучает, испытывает наше терпение: шапка пены колдовски медленно поднимается у нас на глазах, и взгляд наш, подобно иголке, пронизывает ее тонкую пленку, не позволяя ему закипеть. А едва на секунду отведешь взгляд в сторону — мгновенно оно вздымается и убегает.
А тем временем Мигуд бродил по двору, вынюхивал что-то у порога каморки, где мякина, почесывался об угол овина, пугал кур, поднимая их с насестов. Потом направился к окошечку, из которого Лизетта иногда бросала ему корку хлеба, но свернул по пути, преследуя неуклюжую утку. Утка ускользнула, а он, тяжело отдуваясь, продолжал свой путь. Подошел к коляске. Обнюхал ее со всех сторон, начиная снизу, от самых колес, и заглянул наконец через борт на ребенка. Фукнул раза три-четыре, вдыхая воздух, потом одним долгим выдыхом выпустил его; опять четыре коротких вздоха — долгий выдох, сопровождаемый тихим похрюкиваньем. Ребенок широко раскрытыми голубыми глазками смотрел на чудовище, вдруг возникшее в поле его зрения. На розовом личике появился испуг, но тут же растворился в улыбке, открывшей в беззубом ротике пятнышки двух нижних резцов и обнаружившей ямки на щечках. Улыбка возникала и исчезала на крохотной мордочке, попеременно, как бывает с луной, скрывающейся за облаками и вновь выглядывающей. Однако глазки — несмотря на эту улыбку — оставались испуганными, и улыбкой эта малютка словно хотела заворожить неведомую злую силу. Мигуд понюхал еще; четыре коротких вздоха и выдох: «Бу-бу-бу-бу-бух!..» Значит, все-таки шутка?.. А потом вдруг Мигуд изменил игру, оборвав ее громким хрюканьем. Ребенок перекосился, замахал ручками, и оскаленные зубы животного вонзились в его тельце. Малютка задохнулась — нестерпимая боль помешала прорваться крику, так что прошло жутко много времени от первого укуса до крика… Второй укус пришелся прямо в личико ребенка и уничтожил выражение боли, прежде чем крик сумел вырваться наружу. Все произошло бесшумно.
Словно подхваченная каким-то предчувствием (так ей по крайней мере потом казалось), Лизетта сняла закипавшее в кружке молоко и бросилась к окошку. Боров чавкал, подняв верхнюю губу, и равнодушно смотрел на женщину. И только тогда взгляд ее упал на коляску.
Руки сами собою вцепились в волосы, и она услыхала пронзительный вопль — свой собственный вопль, но далекий и чужой.
Все были в сборе полностью, и Голобы, и Моричи. Лизетта после нервного припадка и вторичной потери сознания погрузилась в то почти идиллическое, потустороннее спокойствие, которое наступает после глубочайших потрясений и продолжается до тех пор, пока не родятся новые силы для следующего взрыва отчаяния.
Читать дальше