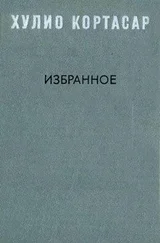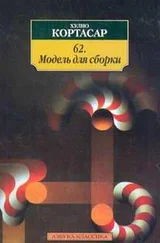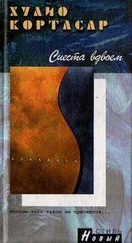Хулио Кортасар
СЛЮНИ ДЬЯВОЛА
Черт его знает, как об этом рассказывать — от первого лица или от второго, а, может, от третьего во множественном числе, или вообще придумывать какие-нибудь невообразимые словосочетания, вроде, например, таких: «Я смотрели выходит луна» или «Нам мне страшно больно смотреть», а еще лучше так: «Ты рыжая женщина были тучами, плывшими над моими твоими нашими вашими лицами». Черт знает что.
Если садишься писать рассказ, то лучше всего сначала пойти опрокинуть стаканчик и оставить в покое свою машинку (ибо я пишу на машинке). И это вовсе не шутка. В самом деле, так лучше, потому что гвоздь моего рассказа тоже машинка (правда, иного рода — фотоаппарат «Контэкс» 1.1.2), а, надо полагать, один механизм ближе и понятнее другому механизму, чем мне, тебе, ей — рыжей женщине — и тучам. Впрочем, хватит валять дурака, я прекрасно знаю, что если уйду моя милая «Ремингтон» будет стоять, как вкопанная, на столе, застыв в том поразительном оцепенении, каким отличаются работающие механизмы, когда они не работают. А значит, мне надо садиться и писать. Кому-то из нас надо об этом написать, если это будет рассказано. Лучше взяться за дело мне, потому что я мертв, потому что меньше других во все замешан и вижу одни только тучи на небе, и могу думать, не отвлекаясь, писать, ни на что не отвлекаясь (вот наплывает еще одна сизая туча) и вспоминать, не отвлекаясь, ибо я мертв (и жив, — не стану никого вводить в заблуждение, и только жду момента, когда смогу приступить к рассказу, хотя начало, как видите, уже положено и, в конечном счете, так всегда надо начинать, когда хочешь о чем-то поведать).
Но тут, ни с того ни с сего, я спрашиваю себя, а зачем. собственно, мне об этом рассказывать? Однако может же человек спросить себя, почему он делает то или иное, или стоит ли ему пойти с кем-то поужинать (а вон и голубь пролетел и, кажется, воробей вспорхнул) или почему, когда услышишь хлесткий анекдот, у тебя так и засвербит в желудке и ты не успокоишься, пока не забежишь к приятелю в офис и не выложить ему то, что слышал… Вот тогда, наконец, приходит облегчение, успокоенность и можно вернуться к работе.
Подобное состояние души необъяснимо, а потому лучше отбросить жеманство и рассказать о том, что со мной приключилось, ибо в конце-то концов никто не задумывается над тем, как он вздыхает воздух или надевает ботинки, но стоит случиться чему-то необычайному, — когда, например, в ботинок влезет паук или при вдохе услышишь хруст битого стекла, — вот тогда потребуется выложить сослуживцам или врачу: «Ах, доктор, я не могу дышать…» Да, мне непременно надо обо всем рассказать, надо прикончить проклятый свербёж в желудке.
А поскольку окончательно решено приступить к рассказу, начнем с начала и по порядку, — спустимся по лестнице этого дома к воскресенью 7 ноября, которое было ровно месяц назад. Итак, — спускаемся пятью этажами ниже и попадаем в воскресенье, такое неожиданно солнечное для ноября в Париже, когда просыпается страшное желание бродить по городу, глазеть направо и налево и щелкать затвором (мы все тогда фотографировали, и я — фотограф).
Все же мне очень трудно выбрать форму повествования, я не боюсь снова это повторить. Трудно, потому что никто не может сказать, кто или что в этой истории главное — я сам, или то, что произошло, или то, что я видел (тучи, иногда голубей), или мне просто-напросто следует изложить правду, но эта правда будет только моей и всего лишь утихомирит свербящий желудок, удовлетворит охоту выговориться и покончить с этим раз и навсегда, как бы там ни было.
Рассказ будет вестись неторопливо, события разворачиваться в том ритме, в каком я пишу. Если же я выйду из игры, если не буду знать, о чем вести речь дальше, если небо очистится от туч и произойдет что-то еще (ибо нельзя же все время глядеть на плывущие тучи, а иногда и на голубя), если что-то из всего этого… Нет, все эти «если» только усложняют повествование, — как такую фразищу закруглить? Начиная с вопросов, рассказ вообще можно не сдвинутьс места, лучше уж писать, как пишется, может, это и станет каким-то ответом, — хотя бы тому, кто прочтет.
Роберто Мишель, франко-чилиец, переводчик и — в свободное время фотограф-любитель, вышел из дома номер одиннадцать по улице Месье-ле-Пренс в воскресенье седьмого ноября текущего года (вон наплывают две серебристые тучки). Почти месяц он переводил на французский трактат о судебных отводах и обжалованиях профессора Хосе Норберто Альенде из Университета Сантьяго.
Читать дальше