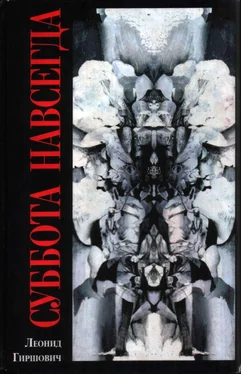— И тут я, ваша светлость, ей давай пятку щекотать. Она уж полковым знаменем вьется… — кто-кто, а дон Хуан-то знал, как жена боится щекотки. Цирюльник, холивший его узкую пергаментную стопу в голубых жилках по подъему, попутно развлекал знатного клиента рассказом о том, как лечил сеньору его супругу от заикания, которым та страдала с детства. — А ручки-то у ее светлости связаны-с, а коленки тоже-с, и вся она прикручена ремнями к ложу. А щекочу я не как-нибудь — самым щекотным способом. Я ей пятки языком лижу, ну что твоя Амалфея. Позвольте-с на этом ноготке уголок подпилить.
Легко угадать, как коррехидор относился к своей жене, урожденной Кабальеро де Кордова. А вот заслуженно ли — судите сами. Мешков золота в ее приданом было куда больше, чем христианских имен в ее родословной (тогда как генеалогическое древо дона Хуана было позатейливей рельефа жил на упомянутой стопе, выпростанной из-под голубого шелкового халата, подбитого горностаем). С годами близость турецкого берега все сильнее давала себя знать во внешности доны Марии, которую унаследовал от матери и Эдмондо — а больше детей у них не было…
Коррехидор всегда вспоминал или, лучше сказать, всегда гнал из памяти (что, впрочем, одно и то же) тот роковой день 29 июня 16** года. Праздновались его именины — дона Мария еще выследила именинника с Любочкой Шеллер. Сама она была в корсете, дабы скрыть от гостей свою беременность. Ребенок должен был родиться месяца через два. Последнее не мешало ей принимать участие в играх, кататься на лодке по Тахо, а также делать многое другое, в том числе — шпионить за своим мужем, в общем-то безрезультатно. Тем не менее торжество тезоименитства завершилось грандиозным скандалом в святилище Гименея. Любочке дон Хуан жаловался на трудности своего ремесла. Но та хоть и выражала состраданье — даже в словесный петтинг их разговор не вылился. Поэтому дона Мария, сидя на кровати, тяжелая, с опухшими ногами, не нашла ничего лучше, как приревновать супруга к его должностным обязанностям. Ей он, видите ли, никогда ни на что не жалуется. Немудрено. Знает, что ни понимания, ни поддержки он у нее не встретит, одни лишь упреки в чрезмерном служебном рвении — что под этим разумелось, ему объяснять не надо было.
— То, что делается — делается по приказанию короля и на благо Испании. — Он топнул ногою. Слишком многие, включая и тех, кого он тщетно надеялся увидеть среди своих сегодняшних гостей, обвиняли его в том же самом. — Я всегда знал, — проговорил он, давая волю своему бешенству, — что в душе вы сочувствуете всем этим, «из насих».
— А я всегда знала, что вы ненавидите меня за то… за то… — к горлу ее подкатили рыданья, — что я вас богаче… Вы только потому и женились на мне, и вы никогда не простите мне этого… О, я несчастная-а…
Рыдания перешли в животные крики, закончившиеся преждевременными родами. Das Kind war tot, как писали немцы. Давно это было, в 16** году…
* * *
— И долго ты лечил дону Марию от заикания?
— Затрудняюсь сказать, во всяком случае до полного ее излечения уже недолго. И если ваша светлость не возражает… — на миг опустив свои руки брадобрея, он поднял голову: под сморщившимся гармошкою лбом отвратительно-угодливое выражение глаз.
Ни один мускул не дрогнул на лице великого толедана.
— Ну-ка, как ты делал ей? Изобрази… А, щекотно, дьявол! — И он отдернул пятку от цирюльникова языка, как от огня. «Неплохая штука вообще-то, — подумал коррехидор. — Не взять ли на вооружение? Поэффективней сапожка…»
— К вашей светлости хустисия, — прервал слуга занявшуюся было мысль, каковой так и не посчастливилось ни во что развиться… или посчастливилось ни во что не развиться — это уж как посмотреть.
— Зови.
Надо ли говорить, что с коррехидором альгуасил был иным, нежели со своим «крючьем». Он подчеркнуто прибеднялся, чем давал понять великому толедану, что в душе считает все это глупостью. Что именно — это уж по обстоятельствам: с толеданом — толеданство, с красавицей — красоту, со святошей — святость, и т. д.
— Ах, сударь мой, какая досадная оплошность! Парик вашей светлости, по которому в Испании всяк узнает коррехидора, оказался на мне. Я с величайшими сожалениями его вам возвращаю. Если б только виновник этого недоразумения попался нам… — с этими словами хустисия протянул дону Хуану шляпную картонку, этакий tambour militaire, и даже с разноцветным треугольно-зубчатым орнаментом по обечайке.
— Ах, эти авторы, что с них взять? — сказал коррехидор. Альгуасил уже открыл было рот, но коррехидор, помнивший обо всех обидах и фобиях хустисии, опередил его, повторив: — Нечего, нечего с них взять. Наоборот, дать им надо, как одному моему родственнику, срок на обдумывание. Вот он уж третий год думает, как дошел до жизни такой. Давайте сюда парик.
Читать дальше