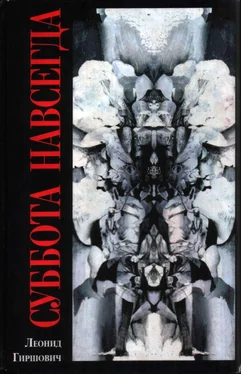Зато на «кой-чего» арамбаша предпочитал свет не проливать. А мы — прольем, благо скатерть чужая, а на бумаге свет пятен не оставляет. Когда Бельмонте и Педрильо, уже в ошейниках, соединенных цепью, уводили, а следом несли запеленутые тела, к арамбаше приблизился Мртко. Он стоял в лунном свете, заштрихованный тенью от тростника, которая чуть колебалась на его счастливом юношеском лице, глуповатом, подобно всем счастливым юношеским лицам. Сердце билось, грудь вздымалась, как после любовного акта. Главный же гайдук повернулся к луне спиною, и лица его нельзя было различить.
— О повелитель могучих гайдуков, Мртко твой приказ выполнил, ни в чем не понеся урона.
Голос из темноты проговорил:
— По мысленному поручению басорского владыки, повелителя правоверных и льва над народами…
При упоминании имени паши Мртко выразил покорность, для чего придал туловищу несколько иное положение, нежели вертикальное, главным образом, за счет увеличения точек опоры.
— …за победу, одержанную во имя спасения нашей чести, — продолжал голос…
«Неужели повышение в чине?» — мелькнуло в голове у Мртко. Последняя в его жизни мысль была исполнена абсолютного счастья. Между прочим, высшая награда богов — вспомним Клеобиса и Битона.
В следующем кадре мы видим катящееся колесо тюрбана. Это автомобиль на полной скорости врезается в топор. Но тут арамбаша выпрастывает правую руку из широкого левого рукава, в ней двуствольный пистолет с взведенными курками. Отшвырнув окровавленный топор, Клоас уже тянется его взять, но контрольный выстрел производит сам арамбаша — ему в лицо, дуплетом. Клоас, бездыханный, падает на бездыханного же Мртко.
Это происходит на глазах у всех честных гайдуков. На Востоке, где людей миллионы, побудительный мотив поступка должен быть очевиден, иначе все решат, что в человека вселился шайтан, и разбираться с ним долго не будут. Клоас — дурак, было бы даже странно, если б его, дурака, на месте не пристрелили. Но это не все. Арамбаша, помня, где у Клоаса потайной карман, извлек оттуда свой кошелек, взвесил в руке — нет, все в порядке.
Со своими пятью башнями, с флагом, различимым только в ясную погоду, а так — сокрытым в облаках, Алмазный дворец для Басры был тем же кафковским Замком. Однако это его «в-себе-самом-бытие» охватывало еще несколько сотен человек, для которых Алмазный дворец — скорее Иерусалимский Храм, нежели Кааба. Роль Святая Святых — а в ней, по кощунственному утверждению египтян и сирийцев, хранился ослиный хвост — играла Ресничка Аллаха. Последняя тоже являлась источником разнообразных фантазий, будучи табу для всех, за исключением первосвященника сей обители наслаждений и его левитов — Селима и его евнухов. Нарушение этого табу, хоть бы и ради спасения жизни паши, каралось смертью. Поэтому не только арамбаша, но даже личная охрана паши (четыре брата, грешивших против естества самым тошнотворным способом) не смела ступить на Мостик Томных Вздохов. В определенном смысле он представлял собою мост Сират, за которым начинается Джанна праведных. Но как бесчисленные вестники осуществляют связь между небом и землей, заполняя своим эфирным составом непреодолимые для смертных глубины, так же и гарем имел свой беспроволочный телеграф — в облике существ, которых сближало с ангелами не столько наличие чего-либо, сколько отсутствие. Они не проходили обучения в лицеях, подобно кастратам-вундеркиндам. Будучи лишь вестовыми с навощенной tabula rasa вместо души, они не имели никакого другого употребления, как, скажем, не имели его глухонемые «мойдодыры», караулившие ванну паши.
«Но вот про-обил жизни час», поется в одной трехгрошовой опере.
— Что-о? Арамбаша захватил беглецов? Вести всех сюда. О, я их буду судить грозным судом, как Господь наш Аллах будет судить тварей дрожащих в день величия своего, когда разверзнется твердь земная и черные хляби восстанут до небес. Трепещите, рабы! Ибо клянусь, день сей днем гнева наречется.
Гиляр, черный буйвол, «лишенный ятер и конца», молчал, а с ним молчало и все скопчество — как евнухи черные, так и евнухи белые; молчал поверженный Осмин и вся его академия. Их кредо — идейное, профессиональное, жизненное — было: с необрезанными сердцами не войти в царство Божие, а с неотрезанными концами — в гарем царский. Что же теперь…
На высоте тридцати восьми ступеней, белоснежных, как жертвенный агнец, стоял в сиянии славы Селим-паша. За ним теснились евнухи разных степеней посвящения — в точности как толпа ангелов в Судный день позади Аллаха. Вот-вот доставят грешников. Распростертые на паперти, они будут молить о прощении, а сверху раздастся громоподобное: «Ха. Ха. Ха».
Читать дальше