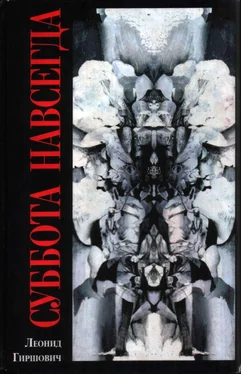— Эй, Бельмонте! Покажись госпоже, — крикнул тот. — А вот и наш художник.
Несчастная девушка не сразу поняла, о ком идет речь. Глаза заметались: где? где? Но увидеть мало, надо еще воспринять увиденное. А между тем из-за мольберта показалась курчавая голова, покоящаяся на мельничном жернове воротника. Под ним имелись также слабо выраженные признаки того, что зовется телом, последнее, несмотря на свою микроскопичность, облачено было самым изысканным образом: черный крошечный колет со щегольскими наплечниками, бархатные панталончики пуфами, шпага — не длиннее сапожного шильца — в обтянутых замшей ножнах. (Поздней девятнадцатый век наводнит журналы и газеты головами всяческих знаменитостей на крошечных туловищах и комариных ножках.) В правом отростке у этого существа была кисточка, а в левом он ухитрялся держать палитру и еще целый букет кисточек в придачу.
— Бельмонте — прекрасная гора. Не правда ли, дорогая, важность, написанная на его лице хоть и комична, но не лишена оснований: ему предстоит задача, которая по плечу исполину. Глядите-ка, он в состоянии поклониться и не перевернуться, — Мино усердно отвешивал поклоны — Констанции, паше, Осмину.
С возгласом «ах!» Констанция без чувств упала на руки паше, который склонился над нею, как декадентский мир над Тамарой — хищно, нежно. Каким предстает мир глазам новорожденного? Из своей зыбки, [95]плывущей по безбрежному океану, он видит нечто нависающее над ним, охраняющее его, обволакивающее родимым уютом. От пережитого шока Констанция могла умереть и заново родиться. И в этом перерождении близкое дыхание паши скорей согревало, чем отвращало, запах целебных трав, мешаясь с благовониями Востока, не только не душил — он обещал заболевшему надежный уход. Почему-то и борода, аккуратно подстриженная, «с корочкой», внушала доверие, а перстни на искалеченных пальцах, сгибавшихся не в тех местах и не в ту сторону, вспыхивали светофорами: мол, в ту, в ту, езжай, не бойся.
— Душа ханум чувствительна, как кожа младенца. Этот Бельмонте своим видом напугал ее до смерти, — сказал Осмин.
— Тебе нечего бояться, Констанция, когда ты со мной. Обопрись о мою руку и почувствуй ее силу. Эта рука непобедима, и служит она только тебе одной.
— О повелитель православных, какую позу принять?
Селим-паша безмолвно простер руку в направлении стоявших здесь золотых качелей — если возможно было две колонны из храма Соломона перенести в храм Св. Петра, то перенос качелей со «Златозады» в Пальмовый сад просто ничего не стоил. Констанция села на золотой слиток скамеечки, взялась за золотые цепи и медленно, но решительно принялась раскачиваться. Селим не сводил с нее завороженных глаз. Когда Констанция закусила цепочку от крестика, хлеставшего ее по груди, паша привстал. Рука сжала рукоять сабли с изображением солнца, испускающего волнистые лучи, — того же, что и на флаге. Евнух Осмин, известный своими исследованиями в области сладострастия, определил это как маятник любви. («Алихан?» — «К сожалению, мы, молодое поколение евнухов, не уделяем достаточно внимания этому вопросу». — «Маятник любви — Алишар?» — «Ее горничная специальным составом смазала ей ноги, чтобы туже облегали их красные чулочки». — «Джибрил! Маятник любви». — Джибрил поспешно убирает бритву. «Прости, учитель, я не расслышал». — «У тебя уже бритва, как полумесяц. Маятник любви, ну…» — «Чем дольше девушка качалась, тем шире становилась ее улыбка — я полагаю».)
Констанция летала, как птица, то энергично налегая на золотые цепи, то откидываясь назад, запрокинув голову и вытянув носки. Закушенный крестик, разметавшиеся волосы, улыбка, с какой несутся навстречу любой опасности — это было умопомрачительное зрелище, равно как и состояние (соответственно для него первое, для нее второе). Лицо Констанции — случай обратного превращения акварели в белый лист ватмана. С такими лицами, должно быть, скакали уже не на танки, а в свой национальный гимн, польские уланы — навечно szablą odbierac.
— Все. Я больше не могу, — беззвучно проговорила Констанция.
— Носилки! — крикнул паша.
Когда Констанцию усаживали в носилки, она дышала, как после долгого преследования. Но преследователь торжествовал победу куда большую — над самим собой! Вот уж воистину неприступная твердыня для каждого: он сам.
— Полная луна дарует полное забвение. Ровно в полночь, девушка, тебя навестит Селим-паша.
— Па-а-шел! — крикнул Осмин, и Констанцию унесли.
Читать дальше