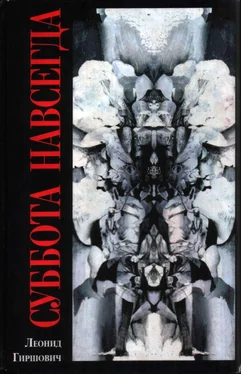Я с тобой, Коломбина. Давай барабан — вот мои китайские палочки. Сейчас я им такой дроби задам.
Схватка тритоновс куклами. Ариадна безучастна, она над схваткой. Коломбина тоже над схваткой. Но она над схваткой носится. Распластала свои крылышки и жужжит пчелкою победы. Слышны крики: «За интернациональную комедию! За национальную трагедию! Китайскими руками, да, гады? От гадов слышим! Да здравствует 1913 год! Да здравствует 1940 год! За отечество атласных баут! За отечество белых головок!»
В одну кучу гоп!
Мировые войны начинаются с гражданских, гражданскими завершаются мировые, кому как повезет, а вообще лиха беда начать. Уже звучала канонада, уже вспыхивали огни. «Фейерверк? — подумал антрепренер Мигуэль Бараббас, — рановато вроде», — и сунул два пальца… Это была его последняя в жизни мысль.
Ядро унесло его голову, оставив телу на память о ней нижнюю челюсть. Но даже будь дон Мигуэль ослом, а в рядах актеров сыскался бы новый Самсон, это решительно ничего бы не дало. Против артиллерии ослиной челюстью, даже подкованной самим Гефестом, не повоюешь. Пальцы успели привычным движением нащупать в жилетном кармане серебряную луковку, на которой выгравировано: «Дорогому сеньору Бараббасу на память от любящей его труппы» — и много-много подписей; но увидеть, который час, и понять, что для фейерверка слишком рано, было уже, естественно, некому. Двадцать второго июня тоже кто-то успел подумать о фейерверке и… как те два пальца.
Долго в пылу сражения актеры не замечали, что в бой вступила третья сила и лупит из своих одиннадцатиметровок — и по белым, и по красным. Не замечали еще и потому, что с наступлением темноты сами не различали больше, где свой, где чужой, продолжая биться вслепую. Коломбина, словно из дикого леса дикая тварь, оседлала случайного мустанга, когда вместе с другими зверями, он в страхе носился по берегу, озаряемый взрывами догадок (догадками взрывов?). Верхом на нем она — как сама война, то был полет какой-то тропической валькирии. В одной руке сабля, в другой — непонятно что; косы — вразлет, в потемках они одного цвета с конской гривой — цвета черного дыма. Лишь платье белеет, неровный подол его в зубцах наподобие пилы. Жестокой девчонкой скачет она по телам и выглядит так, будто это не Анри Руссо, а сама она себя нарисовала.
Великое мужество вдохнула богиня в грудь боцману. Арап хватал и ломал все, что попадалось под руку. Так сломал он о колено хребет Пульчинелле. Но вскоре и сам разделил участь убитого им Петрушки. С возгласом «ben venga!» тенор Хозе проделал в нем дыру размером с собственную голову, через которую высыпались колесики и пружинки.
Прямым попаданием снаряд уложил пол-оркестра. Тогда на выручку музыкантам подоспел оркестр, сидевший в засаде. Кабальерович оказался предусмотрителен и запаслив: когда в огне и пламени все рушилось и не хватало уже предметов первой необходимости, он дирижировал полуторным составом. Разумеется, все гаубицы палили в такт исполняемой музыке, по завету фрау Рифеншталь. Под шквальным огнем противника, в отблесках ночных пожаров, как в отзвуках «Ленинградской симфонии», Кабальерович казался Элиасбергом. [37]
Буратино сохранял полное присутствие духа, что в минуту жизни роковую и трудную выгодно отличает желтых от всех остальных: и от белых, и от красных, и от черных, и от коричневых, и от зеленых. Едва только противник выдавал себя огнем, Буратино, прицелившись, стрелял, после чего деловито всыпал в ствол дроби и ждал.
Тенью взметнулась альмавива, и кто-то проговорил:
— Принимаю командование на себя.
Боец Буратино узнал субалтерна. Хотелось спросить, что с кораблем, но мечта помощника капитана стать капитаном сбылась лишь на мгновение — в следующее его уже пропэр дручок (как пелось в опере, той, где раньше работал Кудеяр).
— Не меньше Гейдельбергской Бочки, но и оттуда выйдет… — прохрипел он, прислушиваясь к звукам оркестра. — Обетовано… — и упал, в предсмертных корчах хватая пустоту, и вдруг обломил Буратино нос. О! Этим он увлек его за собой. Ибо если Кащея можно было убить в яйцо (в чем старый сладострастник открылся царевне), а Ахилла — в сверкающую пяту, то у Буратино, как нетрудно догадаться, жизненно важным органом являлся нос.
Китаец! Брат мой навек! Упершись кованой пятою в желтую скалу твоего безличия, мы держали на плечах европейское небо, раздвигая жизненное пространство для себя и одному Богу известно для чего еще. Злополучный Атлас. Теперь, в час светопреставления, на мертвых лунках твоих белков останутся наши следы — следы невиданных когтей, поскольку мы не знали, что значит пользоваться педикюрными ножничками. Европа… («Aber Lisa, China und Europa, das ist wie Feuer und Wasser», — тщетно вразумляет свою сумасбродку-племянницу Франц Легар. Оперетка — та же опера. «Ах, как Самосуд делал „Желтую кофту“ — с ума сойти!» — И смеялись над Меиром из Шавли с его «заколдованными гуськами».)
Читать дальше