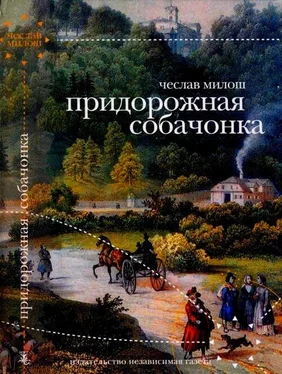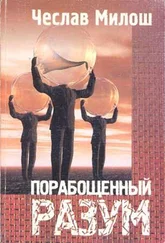А в общем, не такой уж тяжкий труд.
Бог создал этот мир. Давно? Не очень.
Сегодня утром. Миг тому назад.
Бутоны не успели распуститься.


От той весны, когда ходил дорогами Галилеи,
Вроде бы так далеко, а оказывается — близко.
«Смилуйся надомною, грешным», —
просил я тогда.
И слышу теперь: «Где твое сокровище,
там и сердце».


Заняты — только не тем, что всего важней
Носятся так, словно верят: они бессмертны.
Каждый себя считает ценнее всех.
Каждый считает: другого такого нету.


В том и тайна креста,
Что мерзейшее приспособленье для пыток
сделано знаком спасенья.
Как могут люди не думать, чем их обносят в храмах?
Пусть карающий пламень пожрет основанья мира.


Поэзия, да и любое другое искусство, — изъян, который напоминает человеческим сообществам, что мы нездоровы, как ни трудно в этом признаться.


Поэт словно дитя среди взрослых. Он знает, что ребячлив, и должен постоянно прикидываться, будто участвует в делах взрослых.
Изъян: ощущать в себе ребенка, то есть наивно-эмоциональное существо, которому беспрерывно угрожают насмешки и хохот взрослых.


Нелюбовь к эстетическим теориям и рассуждениям о форме поэзии, то есть ко всему тому, что загоняет нас в рамки одной роли, возникла у меня из чувства стыда, иначе говоря, я не хотел смириться с приговором, обрекающим меня быть поэтом.
Я завидовал Юлиану Пшибосю: как это он умудряется уютно себя чувствовать в шкуре поэта? Значит ли это, что он не находит в себе изъяна, темного клубка, страха беззащитного, или решил ничего этого не показывать?


Культ искусства усиливается по мере того, как растет число людей, которых не отгораживают от других обычаи и предписания их религии. Толпы таких людей посещают великие музеи, например Лувр или нью-йоркский «Метрополитен», подлинные святыни рубежа веков.
Каждый хочет знать все то, что знают другие, черпая с экрана или из иллюстрированных журналов сведения о сексе, нарядах, автомобилях, путешествиях. Ходят стадами и друг друга фотографируют. А то высокое, чего они полуосознанно жаждут, обретает для них форму искусства, которым они восхищаются.


В ранней молодости я почему-то был убежден, что «александрийство» означает ослабление творческого импульса и увеличение числа комментариев к великим произведениям прошлого. Сейчас я не уверен, справедливо ли это, однако настали времена, когда слово имеет отношение не к предмету, например к дереву, а к тексту о дереве, который ведет начало от текста о дереве и так далее. «Александрийство» означало «упадничество». Потом об этих играх надолго забыли, но как быть с эпохой, которая уже не способна ничего забыть?
Читать дальше