Чеслав Милош
На крыльях зари за край моря
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada
Niechaj Świat Bogu chwałę opowiada
Что бы ни подвернулось под руку, кисть, резец, перо,
карандаш,
Где бы ни застали меня, на плитах атриума, пред царской
парсуной, в монашеской келье,
Исполню все, к чему был призван в провинциях,
Вступая, хоть некому объяснить, куда вступаю и зачем.
Вот и сейчас, под фиолетовой тучей коня рыжего просверк.
Вьются, знаю точно, подручные по подземельям,
Свитками шелестя, цветную тушь кладут и лак на печати.
А страшно уж как страшно. Мерзостность ритмичной речи,
Что сама себя обмоет, сама же и причешет,
Пусть я и хотел бы сдержать ее, вымотан лихорадкой,
Инфлюэнцей вроде тех, испанских поветрий,
Когда вперенный в тщетность моих затхлых лет
Слушаю, как штормит в окне Тихий Великий.
Но нет, подтяни ремень, мужеское являя начало,
Оттого только, что день и заржал конь рыж.
О равнины. Просверкнут поезда тумана.
Дети идут пустырем, хмарь за чухонской деревней.
Ротмистр Ройза, мертвый. Мовчан. Вихри враждебны.
А хуление беззаконных саднит и горчит змеиным укусом.
Не преклонить колен над рекой невеликого края,
Чтобы внутри окаменевшее развязалось,
Чтобы уж ничего кроме слёз моих, слёз.
Беспокойны
Чаянья старцев.
В ожидании дня
Силы и славы.
Дня понимания.
Столь многое нужно
За месяц, за год
Сдюжить.
Кружит, подобна небу, на солнечных островах, на соленых
бризах,
Течет, не течет, иная, всё та же.
Резные каноэ, в сто весел, танцор на корме гарцует,
Прыг-скок палочкой о палочку стук-постук.
Звонящие пагоды, в бисерной паутине зверюшки,
Тайные терема царевен, плотины, лилии.
Кружит, течет, речь.
Чей краток век, у того легкие вины.
Чей долог век, у того тяжкие вины.
Когда ж настанет тот брег, с которого мы увидим,
Как и отчего сталось?
Темным-темны города вернулись.
Листья кленов устилают двадцатилетнему путь,
Что идет терпким утром и заглядывает сквозь заборы в сады
//Или подворья, где кто-то колет дрова и лает Жучка.
А теперь слушает на мосту плеск ручья, колокольного смеха,
Под соснами песчаных обрывов иней, туман и эхо.
Откуда ведом мне запах дыма, поздних далий
На покатых уличках в дощатых настилах,
Если это было давно, в приснившемся тысячелетии,
Вдали, там, откуда бежит исчезающее светило?
Был ли я там, свернутый зародышем в семядоле,
Призван с тем, чтобы за часом час меня коснулся?
Так ли мало под вечер выпало зноя и тягот,
Что вместо платы свершившаяся моя участь?
Под фиолетовой тучей коня рыжего просверк
Откроет мне смутно былое.
Роняет имя мое покровы
И в водах звезды сгорают.
Вновь тот неназванный говорит за меня,
Отпирая сонные тающие дома,
Чтобы писал тут в пустынях
За морями и горами.
Хотел бы забыться в легенде, в буколике, однако не выйдет, не оттого, впрочем, что слишком сильно занимало меня уменьшение численности кондоров в Сьерра-Неваде, падение социального статуса медведя или же распря между зелеными и ковбоями по поводу горного льва, он же кугуар, то есть, пума, в результате чего сенат штата Сакраменто запретил в 1971 году охоту на кугуара в течение ближайших четырех лет:
Четырехпалый клевер вдоль речной жилы,
Орех-двойчатка в лесной заказ.
Там жизнь большая нам ворожила
И ожидала, хоть не было нас.
Отче дуб наш, круты твои плечи.
Сестра березка вслед пошептала.
Так удаляясь мы шли навстречу
Живой воде, как к началу начал.
Пока в боровой скрываясь черни
В течение дня юного лета,
Не встали у ясных вод вечерних,
Где князь бобров переправы лепит.
Прощай, природа
Прощай, природа
Пролетали над лентой белошапочных гор,
На душу кондора в кости играя.
– Улестим ли мы кондора?
– Не улестим мы кондора.
// Запретных плодов не вкусил, се вымирает.
В парке над рекой медведь перешел дорогу
И, вытянув лапу, о помощи просит.
– Так-то шугал пилигримов лесного края?
– Дай ему пива бутылку, пускай гуляет.
Знавал и он время добрых медвяных просек.
В два прыжка преодолена лента асфальта
И снова в свете фар отуманенный ливнем лес.
– Вроде бы кугуар.
– Может статься.
Если верить статистике, как раз здесь.
Читать дальше



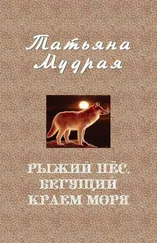


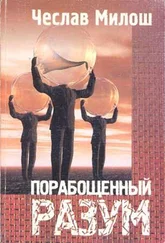

![Юрий Корочков - На крыльях Зари [litres самиздат]](/books/437369/yurij-korochkov-na-krylyah-zari-litres-samizdat-thumb.webp)


