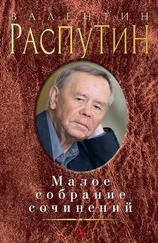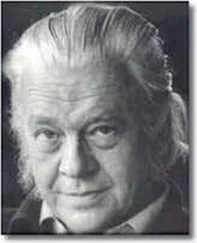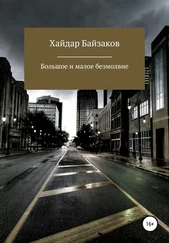* * *
Я очнулась от ласково-теплых прикосновений, которые сразу становились зябко-холодящими, но повторялись новым длинным теплом, повторялись слева и справа, на лбу и подбородке, вдоль губ и на закрытых веках. Обеими руками я отстранила от лица что-то знакомое, влажная ласковость перешла на пальцы и вновь ринулась на лицо, я наконец поняла и обняла две лохматые любви.
Мне показалось, что кто-то стучит в дверь. Почему не звонок, медленно подумала я и, с трудом соединив разомкнувшиеся суставы, пошла открывать.
Никого не было. Лифт стоял неподвижно. Лестничные склоны дышали отсутствием. Я захлопнула дверь, прошла в потерпевшую аварию кухню, подняла с пола пустую кастрюлю, приближаясь, видимо, к мысли о необходимости приготовления обеда хотя бы из одного блюда.
Теперь стучали прямо в меня. Стук был тороплив и срывался в панику.
Кто-то спутал меня с дверью.
Я опустила крышку на пустую кастрюлю, забыв, для чего их держу.
Я прислушалась внутрь и наружу. Вроде бы тихо и ровно во все стороны. Лишь какой-то стержень, то ли проходящий через тело, то ли вставший рядом, напряжен в неощутимой вибрации. Я утешила себя тем, что это вибрирует моя стальная воля. Пудель одобрительно замелькал одуванчиком, мне представились семена, на парашютах собачьего пуха заселяющие округу, и пустыри возле нашей девятиэтажки, проросшие купированными пуделиными хвостами.
Мой позвоночник победоносно выпрямился.
— Ты убила его, — сказала я в собственную бездну. — Ты убила моего ребенка.
— Нет! — отчаялась бездна голосом Е. — Я только тебя ненавидела.
— Пошла вон, — равнодушно сказала я, — ты не нравишься моему пуделю.
— Подожди! — крикнула Е. Она задыхалась от каких-то последних усилий. Вот и хорошо, обрадовалась я чему-то. Сейчас где-то за две тысячи километров откроет удивленные глаза облепленное датчиками неживое тело. — Нет!.. Я боюсь! — не согласился голос Е. — Это же другое! Ты не представляешь! Такая жуть… Во все стороны… Я где-то… То ли что-то есть, то ли еще хуже… Дай руку, а то упаду! Помоги! Дай руку, я сорвусь… Пожалуйста, дай!
— Не дам, — сказала я. А рука дрогнула, желая спасти живое. Этого оказалось достаточно, чтобы Е. воспрянула.
— Боже, какая там жуть! — поведала она без всякой благодарности. — А ты хотела меня выпихнуть. А там некуда.
— Ничего, — сказала я, — уместилась бы.
Пудель, только что лежавший на полу, вдруг пружинно поднялся. Уши его попытались настороженно выпрямиться.
— Убери! — взвизгнула Е.
Мои плечи передернул чужой озноб. Е. панически боялась собак. И кошек, почему-то поняла я. Боялась больше, чем некоторые боятся мышей и гусениц.
— Ничего я не боюсь, — буркнула Е. — От них блохи и всякая зараза.
О заразе говорила Е., которая месяцами не меняла постельное белье.
А я всю жизнь избегала людей, которые не выносили животных. Я была уверена, что такие когда-нибудь предадут.
Я оглянулась на пуделя. Он застыл в стремительной стойке, подняв лапу. На его загривке встопорщились кудри.
— Ген, — сказала я ему как можно спокойнее. — Не напрягайся, Ген, это тетя такая странная у нас в гостях. Я, правда, ее не приглашала, и у нее где-то там собственная фазенда, но, как видно, это не имеет значения. Ей, видишь ли, негде ночевать. Ее конуру отправили за две тыщи километров, чтобы присоединить в ней всякие там приборы и что-нибудь узнать про… про что-нибудь. Ты песинька умный, гениальный, ты всё понимаешь, не беспокойся больше, иди охраняй Туточку…
Я выпроводила Гения из комнаты и плотно закрыла дверь.
— Ага, — обрадовалась Е., - он у тебя сдвинутый, вот-вот вцепится.
— В кого? — спросила я, сама не знаю с каким подтекстом.
— Хоть в кого, — уверенно изрекла Е. — Тебя загрызет — и мне каюк!
— По-моему, это не единственное решение вопроса, — пробормотала я.
— А теперь без разницы. Ага. Если ты меня выпихнешь, знаешь, что будет? Ты убийцей будешь!
— Я… — Неожиданный наметился поворот.
— Ага, ага. Сама видишь, я теперь тут только через тебя.
— Да мне-то до этого что?! — заорала я, не желая признавать очевидное.
Но мне никто не ответил. Чокнутая Е. отрадно вздохнула, сузилась, истончилась и почти незаметным ручейком стекла в какую-то далекую мою глубину, которая была не внизу и не наверху, а в несуществующем ином месте и за таким невообразимым пределом, что от одного намека на него у меня закружилась голова.
* * *
Вздохи и слезы Е. и даже голос не были слезами и голосом в собственном смысле. Они были чем-то, что отражалось во мне ощущением . Чужой голос не звучал наяву, но был не менее внятен, чем голос совести. Вполне сходно с тем, когда смеешься или плачешь в своем воображении: например, тебе обидно и горько, ты ощущаешь жгущие тебя слезы, слезы текут по щекам, но глаза сухи, ты просто сидишь и, может быть, смотришь телевизор или жаришь картошку. Но клянусь, ты плачешь.
Читать дальше