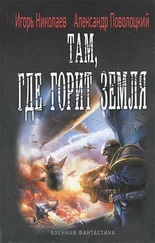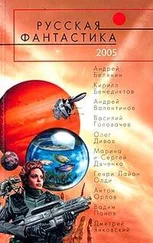Почему сладкой истомой желание всякий раз разливается по его телу, когда она, держа чёрный карандаш аккуратными, хорошей лепки руками начинает прорисовывать и без того чёрные, похожие на крылья ласточки, густые, как соболий мех, брови и аккуратно, маленькими глотками, чуть касаясь бокала пунцовыми губами, пьёт с наслаждением после завтрака шипучку, а потом медленно, вглядываясь в зеркало, подрисовывает абрис губ тюбиком губной помады, как бы ненароком, ненамеренно говоря каждым движением: «Вот, дорогой, какая я! Вот какие у меня брови, какие губы, какое великолепное тело, на которое ты так жадно глядишь и которым так и не успел досыта насладиться, насытиться за целую ночь».
И он никак не мог понять, почему каждое утро ему так хочется, чтобы время остановилось и чтобы, кроме её движений: как она расчёсывает волосы, как берёт маленькими пальчиками бокал, как её губы прикасаются к бокалу, к медленно всплывающим в воде пузырькам воздуха, – чаровница, насыщающая воздух, атмосферу в комнате, электричеством любви, чтобы день в эту минуту замер, остановился и ничего больше другого, кроме этих, дарующих ему неизъяснимое наслаждение движений, её многообещающей, завораживающей, неуловимо блуждающей по лицу улыбки, ничего больше не было.
Солнце, аромат весны, вливающийся в открытые настежь окна, и флюиды очарования, которые источала каждым своим движением эта женщина, что ещё, казалось бы, было нужно ему для счастья?
А возможно, это и было счастьем? Одной из многих его разновидностей, необходимой человеку для ощущения полноты жизни. Своего полноценного присутствия в ней.
Иван Иванович, конечно же, ничего этого не знал. Он знал лишь, что он давно, очень давно не испытывал ничего подобного. В отупляюще-монотонном, беспечально безрадостном чередовании однообразных, похожих один на другой, пустых, ничем особенно не заполненных дней, он даже стал считать подобные чувства больше принадлежностью дешёвой фантастики, нежели реально окружавшей его жизни. И на тебе! За здорово живёшь, за просто так попался!
«Нет! – думал он. – Ну конечно, может быть, где-нибудь кто-нибудь, кому нечем больше заняться, и мог позволить себе нечто похожее на такую сказочно небывалую роскошь как любовь, конечно, где-то в другом, запредельном измерении и в другом совершенно времени, но чтобы он, серьёзный, как бы здравомыслящий человек, каким он себя понимал, в его годы впал в подобное, достойное всяческого сожаления слабоумие! Нет уж, увольте! Можно же обойтись без крайностей!» – рассуждал Иван Иванович, чувствуя, как всё больше и больше запутывается, увязает в невыносимо приятных, запутывающих понемногу сознание, обволакивающих помимо его воли и разума его всего, обворожительных, превращающих его убогое холостяцкое жильё в сказочные чертоги, чарующих, колдовских тенетах её обаяния.
Но и это было бы полбеды, если бы однажды, возвратясь поздно вечером из театра, где она аккомпанировала какой-то местной знаменитости, и устало опустившись в кресло, Марго не спросила:
– Ваня, скажи, пожалуйста, на милость, зачем всё? Зачем мы? Почему мы так живём?
Честно говоря, у Ивана Ивановича не было ответа на такие простые, вечные вопросы. Он не знал, что ей сказать. Иван Иванович всего-то без малого пятьдесят лет безрезультатно пытался узнать эту превеликую тайну. – Ты, наверно, очень устала, – попробовал он уйти от ответа.
– И всё же! – настаивала она.
Иван Иванович не знал, как ему быть.
– Быть может, кто-нибудь другой, кто поумней, сможет объяснить тебе, что, зачем и почему, – сказал он Марго, глядя в бездонную темень её вопрошающих, колдовских глаз.
– И кто бы это мог быть? – капризно полюбопытствовала она.
У Ивана Ивановича не было полной уверенности, что он сможет правильно ответить и на этот её вопрос, но всё же он кое-что знал о людях, которые на любой вопрос, какой бы сложности он ни был, могли ответить вполне исчерпывающе.
И уж, конечно, одним из таких людей был давнишний, с незапамятных времён, с голопузого детства друг – Витька Монгольский. Уж он, насколько помнил Иван Иванович, в ответах не тушевался и, будучи не любителем базарить попусту о чём ни попадя, как истинный, чистой, ничем не разбавленной воды интеллигент как по происхождению, так и по судьбе, вполне мог ответить на такой вопрос любопытствующему персонажу в таком ключе.
– А вам, дорогой мой, – обращаясь доброжелательно к собеседнику с высоты своего саженного роста и безусловного авторитета в научном мире и в ближайшем окружении, среди сотрудников института, со снисходительными нотками в голосе мог высказаться приблизительно так: – К своему стыду, должен вам признаться, – и, приложив многозначительно указательный палец к губам, добавлял: – Только вы, пожалуйста, никому не говорите! Я знаю об этом ничуть не больше вашего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу