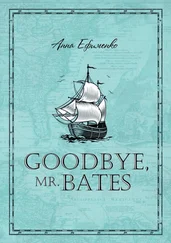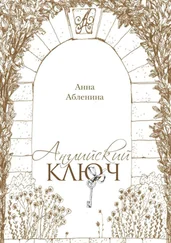– Пошел он к черту, этот Мередит!
– Пошел он! – согласился Барроу, давно мечтавший о ссоре полуродственных неразлучников. – Ты не можешь перевести все это в иную плоскость?
– В текстовую? Ославить его на весь мир?
– Возможно. Но никогда не пиши по горячим следам, перельешь Офелию через край. Ничего смешного, декан так говорит!
– Перси первым поддержал меня в треклятых творческих начинаниях, а потом слинял… Оставил одного. Я купил ему цепочку для часов и ждал на станции, шастал туда-сюда, как идиот, пока смотритель не прогнал. «Не пришла?» Так он спросил меня, тот смотритель, в своей фуражке. Решил, будто я напрасно прождал возлюбленную… и еще плетись лысыми полями обратно… Зимой! А я ждал. Все поезда!
– Прояви напоследок великодушие, сочувствующую христианскую любовь.
Клайв вздохнул:
– С «сочувствующей христианской» еще сложнее. Но что могу с ним сделать? Пусть живет.
Однокашник ласково погладил черноволосый соседский затылок:
– Это и называется «сочувствующая христианская».
Клайву надо было куда-то себя деть, к виноизлияниям или спорту его не тянуло, и он принялся за художественный перевод стихотворения «Под Сатурном», требование факультетской практики, который с внушительным вступлением и пафосом прилюдно посвятил своему блеклому сокурснику Барроу. Не так важен был текст, как факт посвящения: Клайву есть с кем поговорить.
Он связывался через знакомых с именитыми писателями, занялся публицистикой. Студенческое научное недоверие к прославленным деятелям искусства сменилось грезами влиться в их круг. Клайв раздобыл рукопись запрещенного текста известного романиста, с которым у него совпадало второе имя, и этой меткой судьбы он незримо возвышался над остальными. Всю ночь он копировал текст, прежде чем драгоценный манускрипт пришлось отдать обратно. «Морган!» – роднился он именем с миром гениев. «Клайв!» – и имя собственное находил в герое тайной рукописи. Переписав первую половину повести, студент налился тоскливой, неудовлетворенной смутой, она изворачивалась детской боязнью прослыть беззащитным, уязвимым и молочным, она плыла по небу кораблями разрушенной Эллады и принуждала принять бой с единственным оружием Клайва – словом.
«Он всегда слыл прилежным учеником, филологом-классиком, и от ужасов, коими стращала Библия, его рано или поздно должен был оградить Платон».
Так было сказано про другого Клайва в рукописи достославного тезки, и эта сентенция стала девизом К.
Ему было с кем поговорить. У него в пажах волочился Барроу, трудящийся внештатным корреспондентом газеты за полставки, и был Дуайт Шеймус, знакомый по переписке из Сиди-бу-Саид во французских колониях, у которого можно было остановиться по пути в разрушенный Карфаген. У него был дядя Джордж, элегантно стареющий за игрой в петанк в Тюильри. Был Грег Смолвидж, который скоро начнет обивать пороги издательств, втюхивать им «Мистера Ренегата» и «Смерть Аякса», заявляя, будто Эрншо – «завтра» мировой литературы. На крайний случай у него всегда был Натаниэль Гардинер, пусть и насовсем вычеркнутый, выцветший за годы, напитавшие Клайва интеллектуальными соками, однако теперь уже последнее звено, связующее молодого литератора с нежданно-негаданно канувшей в Лету страной его детства.
Боги мои, я мельче пылинки, думал К., покупая на скупое переводческое жалованье свой первый печатный аппарат, как вымышлять большие просторы?
Дуайт Шеймус, смуглый, с отстеганными песчаным ветром недобрыми черными глазами, копия Хитклиффа из «Грозового перевала», выделил Эрншо комнату с балконом, овеянным жасмином и эвкалиптом, откуда было видно роскошный дворец, резиденцию муфтия Эль Аннаби. Шеймус вел дипломатическую деятельность здесь и в Алжире, в совершенстве владел арабским и сватал бело-синюю деревню как идеальный уголок для поэтов и художников. У Дуайта была бритва «Шеффилд» с выбитым крестиком на лезвии, и присутствие под одной крышей древнего эха свершившейся трагедии плодило диковатые, гротескные фантазии у незагорелого визитера: как символично было бы полоснуть себя в этом пустынном краю – в том, что у него не хватит духу покончить с собой, подобно деду, он не сомневался ни разу. Днем Клайв с восторгом лазил по римским мозаикам, рисовал в блокнотике финиковые пальмы, экзотично шумящие, но стоило каленому средиземноморскому солнцу затонуть в горьких волнах, как он уползал, подобно местным ящерицам под камни, за свою печатную машинку, монумент его нового быта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу