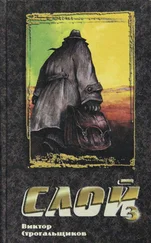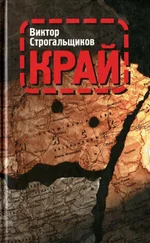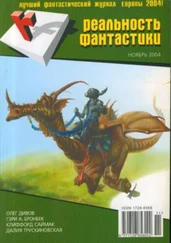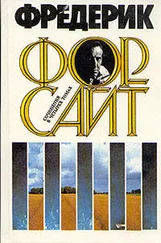Мы молчим, молчат и наши офицеры.
– Всегда есть первый, – говорит майор. – Всегда! А потом остальные как стадо баранов!
Мы продолжаем молчать. Спроси нас ротный – могло быть по-другому, но Кривоносова мы тихо ненавидим, а потому молчим.
– Рота будет стоять, пока хулиган не сознается. Сутки будет стоять, если кому непонятно. Как стадо баранов!
Словно по команде мы с Валькой Колесниковым делаем шаг вперед. Про баранов комбат не подумавши брякнул. Я не баран, и Колесников тоже.
Майор подходит ближе, руки на боках. Я гляжу не на него, а прямо перед собой, как и положено в строю, но майор становится напротив. Деваться некуда, смотрю ему в лицо и вижу, что пятна у него не от скверности характера – это болезнь, местами кожа гладкая, как лакированная, и рядом шелушится. Картина неприятная, однако глаз не отвожу, иначе наш комбат подумает, что я его боюсь.
– Так и знал, – произносит Кривоносов с облегчением и вполне человеческим голосом. – Я так и знал, что эти самовольщики, эти разгильдяи... Дембеля? – вопрошает майор. – В мае дембель? Черта с два вы в мае дембельнетесь у меня. С последней партией, в июне! Лично прослежу... Трое суток гауптвахты каждому!
Я все-таки сдвигаю взгляд налево, уж больно неприятная картина, и замечаю, что Бивень с тем полковником стоят возле машины и смотрят в нашу сторону.
Положено ответить: «Есть трое суток гауптвахты!» Да черта с два тебе, майор, я отвечу. И делай со мной все, что хочешь. Ни черта ты со мной не поделаешь.
– Ефрейтор Кротов!
Вытягиваюсь четче, но молчу и думаю: с таким лицом майор высоко не продвинется. Далеко – это можно, а вот высоко не получится. Но мне не жаль майора, он нехороший человек. Хотя, быть может, потому и нехороший, что все прекрасно понимает про карьеру и лицо.
Все-таки голос у Бивня потрясающий. Настоящий командирский бас, за километр услышишь.
– Майор Кривоносов, ко мне!
Комбат недолго смотрит на меня, зло втягивает носом воздух.
– Бегом, майор, бегом!
И все равно майора мне не жалко. Я слежу, как он трусит в указанном направлении. Бегущего майора солдат видит нечасто.
– Стать в строй, – командует нам с Валькой ротный.
– Есть стать в строй!
К ротному у меня претензий нет по нынешнему дню, поэтому поворачиваюсь через левое плечо и шагаю на место, как молодой, без дембельской небрежности.
Если разобраться, наши офицеры во многом беззащитны перед солдатами. Только салагам командирская власть представляется абсолютной и беспредельной. Ни губа, ни наряды вне очереди не в состоянии сломить стихийный, упрямый, молчаливый солдатский саботаж, особенно если этот саботаж, опять же молчаливо, поддерживают сержанты. Именно последние являют собой подлинную власть. И не только потому, что они круглосуточно рядом с солдатом, тогда как офицеры приходят и уходят. В нашем полку мне неизвестны случаи офицерского рукоприкладства по отношению к рядовым. Можно не верить, но так оно есть. Что же касается сержантов, то именно угроза физической расправы с их стороны заставляет солдата подчиняться и держит дисциплину. Сержант – тот же солдат, только с лычками. Но и сержант без опоры на старослужащих один не справится. Вот и выходит, что дедовщина всем командирам нашим на руку. Лично я в разумной дедовщине не вижу ничего плохого.
Колонной по три мы уходим с полигона. Все, что за сутки пробежали с матом и стрельбой, нам предстоит пройти походным маршем снова. Как там нога у Полишки? Он шагает справа, плечом к плечу со мной, и вроде не хромает. Полишко ничего мне не сказал, но чувствую: он мною недоволен. Не следовало мне перед комбатом залупаться. Ведь только все наладилось, майор ходил в обнимку с ротным, а теперь из-за нас с Колесниковым... Да плевал я на все, до дембеля совсем чуть-чуть осталось. В конце концов, я же не нянька нашему корейцу, пусть сам с комбатом отношения столбит.
«День-ночь, день-ночь мы идем по Африке...» Наша бит-группа исполняла эту песню перед фильмами, солдаты топали в такт сапогами по деревянному клубному полу. Петь Киплинга нам вскоре запретили – полагаю, как раз из-за общего топота: был в нем какой-то вызов неповиновения, командиры его четко уловили. И песню про болотную роту из нашего репертуара вычеркнули тоже. Думаю, из-за куплета про генералов, которые давно на пенсии и ничего не помнят. «А они лежат повзводно, повзводно, с лейтенантами в строю и с капитаном во главе...» Вот и мы бы все легли вместе с корейцем в тех окопах с видом на горы и опасный перевал, если бы все оказалось взаправду. Офицеры, что нас догоняли и догнали, тоже ведь не сразу в ситуации разобрались. На все вопросы был один ответ: «Боевая тревога!» Даже про воздушный взрыв им тоже сказали не сразу. И когда сказали, то выяснилось, что иные офицеры сами видели вспышку и гриб. И никто не спросил, кем тревога объявлена. Значит, было кому и зачем. Потом, когда разобрались, было столько ругани... Но никто не смеялся. Хохотать мы начали позже, когда уже катили в брониках домой. Выщелкивали из магазинов патроны и пихали их обратно в картонные коробки, а те все порваны, патроны высыпаются. Вот тут всем нам стало смешно Потом в полку с неделю не было никаких других занятий, кроме инженер ной подготовки: мы восстанавливали всё, что умудрились поломать, когда рванули умирать за Родину. Про вспышку объяснилось просто. После взлета с недалекого аэродрома при наборе высоты по какой-то причине взорвался истребитель с боезапасом и полными баками. Когда много горючего взрывается в воздухе, получается очень похоже на атомный гриб. Печальный этот опыт теперь используют на боевых учениях: бросают с вертолета бочку с бензином, снабжено дистанционным подрывным зарядом. Вот вам и «вспышка слева» во всей красе и убедительности.
Читать дальше