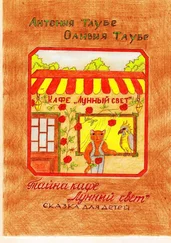У нас был на двоих номер с двумя большими кроватями. Мы немножко обсудили события дня, потом мама выключила свет. Весь день в ней ощущалось какое-то возбуждение, которое я приписывал горю. Сейчас, лежа в темноте, я чувствовал, что оно нарастает. Мама ворочалась с боку на бок, шуршала одеялом. Она не могла уснуть, а значит, не мог уснуть и я.
– Майк, ты не спишь?
– Ага.
– Я хотела тебя кое о чем спросить.
– Давай.
Я знал, о чем она хочет спросить. Во всяком случае, не удивился, когда услышал вопрос. Я крутил это в голове с того самого дня.
– На прошлой неделе. Когда я вошла, дедушка просил тебя что-то мне не говорить.
– Ага.
– Так что ты не должен был мне говорить?
Она хотела спросить с вызовом, но тон получился скорее паническим. Как будто мама ждала чего-то очень нехорошего и заранее готовилась.
Разумеется, тогда я не знал, что именно бабушка рассказала доктору Медведу: до моей поездки в Мантолокинг вслед за ураганом Сэнди оставалось еще четырнадцать лет. Той ночью в аэропортовском «Мариотте» я знал одно: бабушка рассказала врачу о себе и своей жизни во время войны нечто отличное – кардинально отличное, насколько можно было понять, – от того, что говорила деду. Во всяком случае, доктор Медвед считал, что новая версия тех событий стала бы для деда тяжелым потрясением. Отсюда следовало, что бабушка лгала деду и маме. Именно это он просил меня ей не говорить. Он боялся, что самый факт бабушкиной лжи, вне зависимости от того, о чем та лгала, сведет на нет мамины усилия ее простить. Вот все, что я знал.
Можно ли простить мертвых? Что такое прощение – чувство или сделка, для которой нужны двое? Я дал обещание человеку, который не узнает, сдержал ли я слово. Мне хотелось выполнить волю деда, и я без труда мог бы уйти от маминого вопроса. Как-никак у нас в семье умели хранить тайны. Однако я был убежден, что от этого умения никто не выиграл.
– Она что-то сообщила о себе психиатру в Грейстоуне. Что именно, я не знаю.
Я с дедовых слов пересказал историю про доктора Медведа. Когда я дошел до того, как дед объявил, что не хочет знать, мама рассмеялась. В темноте гостиничного номера ее смех прозвучал невесело.
– В моем детстве она постоянно что-то выдумывала, – сказала мама, когда я закончил. – Я постоянно ловила ее на лжи. Она называла это «истории». «О! – Мама изобразила бабушкины интонации, ее акцент. – Ты права, я рассказывала историю».
В темноте мамин голос был так похож на бабушкин, что у меня по коже пошли мурашки.
– Мне она просто рассказывала сказки. Когда я жил у них в Ривердейле.
В коридоре за дверью нашего номера льдогенератор принялся издавать какие-то странные звуки, и я не сразу различил, что мама тихонько шмыгает носом в темноте.
– Как ты думаешь, они были хоть когда-нибудь счастливы?
– Абсолютно точно были.
– Ты так думаешь?
– Конечно.
– Она сошла с ума. Он потерял свою фирму. У них не было общих детей. Он попал в тюрьму. У нее из-за гормонотерапии начался рак. Я выбила его брату глаз, а потом вышла за человека, который стоил ему фирмы. Когда они были счастливы?
– В промежутках? – предположил я.
– В промежутках.
– Да.
На следующее утро нам надо было встать рано, чтобы успеть каждому на свой самолет. Мама считала, что ей нужно больше времени на умыванье и все такое, поэтому поставила будильник на пятнадцать минут раньше, но, когда прозвонил мой будильник, она все еще сидела в ночной рубашке на краю кровати. В руке у нее была часть ЛАВ-1, которую дед привез с собой из Калифорнии, самая первая, лунный сад. Мама держала ее на уровне глаз и рассматривала миниатюрную версию нас между крохотными розами и морковками на гидропонике.
– Зачем ты ее привезла?
– Не знаю, что на меня нашло. Я сложила в сумку его вещи, книгу, фотографии. Как будто он возвращается к себе в Фонтана-Виллидж после того, как с удовольствием погостил у меня.
Я встал, и мама протянула мне покрашенный серой краской диск. Я через открытый люк посмотрел на людей, которых дед надеялся, и не смог, и все-таки сумел уберечь. Двухсантиметровые бабушка с дедом на амортизационном диване, двухсантиметровая мама в амортизационном кресле, ее сантиметровый двенадцатилетний сын в соседнем кресле, младший – с горошину – у нее на коленях. Все в удобных, но практичных синих комбинезонах и эластичной обуви. Пышная морковная ботва, розы – поцелуи губной помады. При таком масштабе подробности были условными, и дед просто покрасил лица телесной краской, рисовать не стал. Раньше наши безглазые лица казались мне жутковатыми, если не символичными в каком-то глубоком смысле, в который не хотелось вникать, но потом я привык. Можно было вообразить на них улыбки. Написать на них любую историю, какую пожелаешь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Игорь Тихорский - Лунный свет[ Наваждение Вельзевула. Платье в горошек и лунный свет. Мертвые хоронят своих мертвецов. Почти конец света]](/books/86984/igor-tihorskij-lunnyj-svet-navazhdenie-velzevula-thumb.webp)