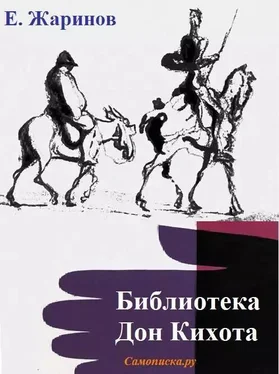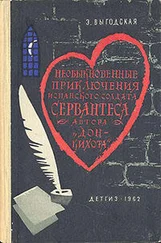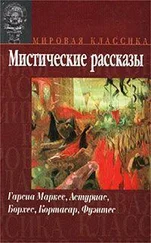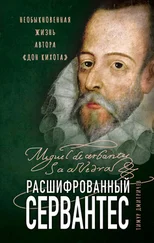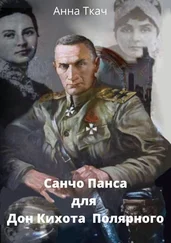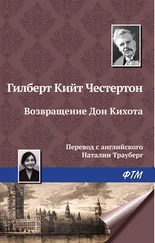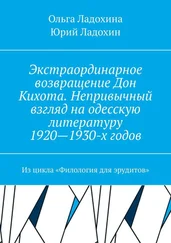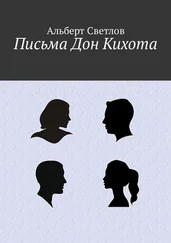Это Фея, невидимая, бесшумно ходит по рядам и бросает из корзинки пригоршнями усохшие слегка цветы. Лепестки застревают в волосах слушающих, ложатся им на плечи. Казалось, что пошел мягкий цветочный дождь.
И жизнь каждого от этого наполнялась смыслом. Один станет бандитом, а затем банкиром, но и в этом сценарии будет гореть жарким пламенем алый лепесток: банкир-бандит издаст сборник стихов. Другой создаст «Speed-info». Пошлость, конечно. Но в каждом брошенном на грязный асфальт газетном листке может оказаться втоптанный в нечистоты лепесток, оставшийся еще от той памятной лекции. Как в том выпуске «Московского комсомольца», посвященном трагедии в Нефтекамске. Трагедия отца и сына, словно случайно попавшая в сети большая океанская рыба, будет плескаться и биться в мелком газетном формате, пытаясь вырваться в свободную стихию других, высоких смыслов и невероятных глубин, на бескрайний простор некоего ненаписанного еще Большого Романа. Эта трагедия, как и весь Роман, просто будут ждать своего автора. Рычков найдет неизвестный автограф Пушкина в груде никому не нужных бумаг — и умрет. Наверное, он напрямую соприкоснется с Великой Книгой, которая потребует от искателя, может быть, слишком большую цену — жизнь. Увидевший Бога — умрет. Книга опасна. На Неё надо выходить подготовленным. В малом она доступна каждому, а в большом? Например, автограф Пушкина? Возьмет и убьет, если ты не готов, если душа не чиста или не познал каких-то истин. Не познал, как Сашка Рычков, в силу возраста. И вдруг — бац: Книга призвала тебя. Ты сразу нашел ляпишевский лепесток, нашел и понял, зачем он. Значит — цель достигнута и жить больше незачем: «Умри, Денис, лучше не напишешь!» — как воскликнул, обращаясь к Давыдову, тот же Пушкин, чей автограф так неосторожно и нашел Саня Рычков, когда ему, Сане, исполнилось всего 25. Ровно половина от возраста Дон Кихота. Но причем здесь Дон Кихот? Просто Ляпишев к годам пятидесяти очень на него похож был: та же бородка клинышком, тот же острый к низу подбородок и тот же аскетизм во взоре. Большая, Великая Книга, которую и пересказывал тихим голосом своим на каждой лекции профессор Ляпишев, давала знать о себе повсюду: иногда жестоко, иногда милостиво. Просто никто не мог понять этого. И все удивлялись, почему старик за любой, даже самый плохой ответ на экзамене, ставит 4 или 5. И никак не ниже. А и то сказать! Ну, в самом деле, что за дело: прочитал студент полный список заданной по теме литературы, или не прочитал ничего. Все равно никто из них по молодости даже и не догадывался, что происходит, не догадывался, что речь идет на лекциях не о литературе в целом, а об одной лишь Книге, которая каждый раз меняет свое обличье под пером того или иного автора. Варианты старик не очень ценил. Он больше на принцип шел. Старику в этом смысле было легко: ему покровительствовала Фея, Фея Розового Куста. За что и почему Ляпишеву выпала такая честь? Этого не знал никто.
После изнурительного зачета, на котором он проявил необычайное мягкосердечие, Воронов вновь встретился с доцентом Сторожевым. Встретились они на кафедре, на третьем этаже, в 313 аудитории.
— Ты чего такой радостный, Женька? Словно весь изнутри светишься.
— Скажи, Арсений, Ляпишев давно умер?
— Лет десять назад, а что?
— Ничего. Я его сегодня видел.
Как показалось Воронову, доцент нисколько не удивился такой новости. Помолчав немного, он только спросил:
— Где?
— Что где? — не сразу въехал профессор.
— Где он тебе явился?
— По дороге на зачет я вслед за тобой проходил через атриум…
— Значит, в атриуме, да?
— Да.
— А где, Женька, где, конкретно? В каком месте произошла встреча?
— А почему это так важно?
— Потом объясню.
— В самом центре.
— Серьезно?! В самом центре? Не шутишь?
— А чего мне, собственно говоря, шутить. В центре зала, то есть атриума, я и столкнулся нос к носу с Ляпишевым, который уже не один год считается покойным. Меня удивляет, Арсений, что поражен ты не самим фактом подобной встречи, а, скорее, географическими, или, точнее геометрическими координатами того места, где все и случилось. Можно подумать, что покойники в нашем университете расхаживают по зданию, словно у себя дома. Кстати, а Гога Грузинчик тоже того?
— Чего того?
— У нас учился?
— Нет. Он закончил институт Азии и Африки.
— Значит, он лекций Ляпишева не слушал?
— Слушал. Я его сюда приводил. Старик уже совсем плох был и читал так, что его еле слышали даже первые ряды. Студенты обнаглели вконец: ходили, выходили из аудитории, чавкали. Только мы с Гогой как вкопанные сидели. Нет. Поначалу — мы как все. И Гогу я даже приглашать не решался: ну, что ему на живой труп смотреть. А затем я совсем обнаглел и начал стул ставить рядом с Ляпишевым. Он на меня смотрел, как собака, которая сказать что-то хочет, но не может. И слезы, слезы у него в глазах. Мне стыдно стало и я от этого отказался. Но вот очень скоро настало время диктофонов. И я принялся записывать еле слышный голос Лапишева. А потом мы с Гогой этот шепот начали расшифровывать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу