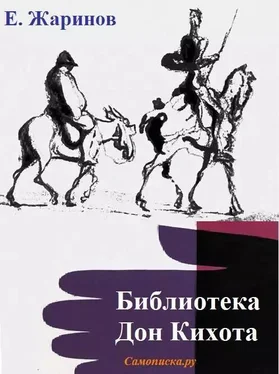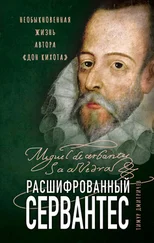Пусть, пусть побудет в шкуре подкидыша. Я бросаю тебя, слышишь, Роман? Пусть туда, в эту рукопись, пишет каждый, что хочет. Чеховская «Жалобная книга» получается. Раз ты, Книга, решила завладеть всем миром, то пусть мир теперь овладеет тобой. Вот так! Это мой ответный ход. Теперь давай, выкручивайся!
И Воронов, необычайно довольный собой, пустился беззаботно качаться на волнах.
Время от времени он продолжал поглядывать в сторону беседки, но там по-прежнему ничего не происходило.
Успокоенный ритмичным покачиванием и целебным воздействием холодной морской воды, Воронов невольно забылся и предался, как обычно, своим воспоминаниям, окончательно, как ему показалось, позабыв о Романе…
Это блаженное состояние неожиданно сменилось каким-то нехорошим предчувствием. Воронов коснулся ногами морского дна, встал и посмотрел в сторону берега… Откуда-то появились дети: трое турецких подростков. Они уже успели войти в беседку и принялись теребить в руках брошенную автором Рукопись. Воронов испытал самую настоящую физическую боль, словно в его кишках начал рыться хирург, а наркоз при этом вдруг перестал действовать. Один из подростков принялся бесцеремонно вынимать ежедневник из обложки. Книга очутилась в его абсолютной власти. Так судьба Сервантеса в мгновение ока оказалась в руках прозелита Гассан Паши. Поистине, «в истории бывают странные сближения!» Воронов почувствовал, как его сердце забилось с удвоенной силой. Одна часть его я захотела выразить себя в крике: «Это мое!»
А другая сторона его души испытывала наслаждение мазохиста: «Давай, рви Рукопись на части, погань ее Ненавистную, вконец извела, Проклятая!»
В результате, словно парализованный, Воронов мог лишь стоять и наблюдать за тем, что будут делать турецкие подростки с его Романом.
Их внимание привлек не сам толстый ежедневник, к тому же исписанный непонятным почерком да еще на русском языке. Это добро никому не нужно. Один из подростков вынул ежедневник из дорогой обложки и бесцеремонно швырнул его на пол. Воронову это напомнило сцену разбоя, в которой точно так же обыскивали всех, кто только что попал в алжирский плен.
Парень бросил выстраданную Рукопись одним ничего не выражающим жестом: так вор-карманник на автобусной остановке деловито избавляется от бумажника, или лапотника, чтобы не поймали с поличным. Так режут горло барану во время святого для всех мусульман праздника. Короткий жест — и бараньей жизни конец. «Убийство для них, — невольно вспомнилось Воронову, — простое телодвижение».
Воронов продолжал между тем стоять по грудь в холодной февральской воде и дрожать, дрожать одновременно и от холода, и от необычайного нервного напряжения. Горло, ведь, тебе не каждый день режут, да еще так, что ты сам за этим наблюдаешь со стороны и ничего при этом не испытываешь. Впечатление жутковатое, но вместе с тем завораживающее.
Троица, между тем, покинула беседку и медленно направилась в сторону поселка, захватив с собой лишь обложку, словно сняли кожу с живого человека. Воронов вздохнул с облегчением: черт с ней с кожей. Слава Богу, целой осталась внутренность! Экспериментатор хренов! Сам виноват! В следующий раз будешь знать, как бросать своего ребенка!
Но тут самый младший из турчат вдруг вернулся назад. Вернулся за тем, чтобы подобрать брошенный ежедневник.
Зачем им эта начинка, эти внутренности, эти кишки, печень, селезенка? Вы уже и так кожу как с живого сняли!
«Нет!» — взорвалось что-то внутри Воронова. Но самого крика так и не последовало. Другое я, я мазохиста, не позволило этому крику вырваться наружу.
С ежедневником в руках турчонок побежал в соседние кусты. А двое его приятелей остались стоять на прежнем месте, как торговцы на московском рынке, деловито осматривая и, видно, оценивая свой трофей в виде дорогой обложки, то есть кожи, писательской шкурки. Они даже попытались выковырнуть яшму, как глаз у мертвой белки.
В кустах турчонок задержался не на шутку. И вышел он оттуда уже без Рукописи.
«А говорят, что турки жопу не вытирают! — неожиданно рявкнуло в профессорской башке. — Вытирают да еще как! Врут все про турок! Такие же люди, как и все. Срут почем зря и бумагой пользуются!»
Воронов чуть не задохнулся от гнева, когда лишь попытался представить себе, что стало с его Романом, с его еще так и не родившимся до конца ребенком.
Его Роман, в прямом смысле этого слова, уделан, обкакан. Вот истинная ценность его, Воронова, творчества. Он обошелся с ненавистной Книгой, пожалуй, излишне жестоко. Она того, явно, не заслуживала.
Читать дальше