И тут внезапно будто чудовищная птица пронеслась над домом, все вокруг взревело. Из-за одеяла, неплотно завешивающего окно, в комнату ворвались вспышки света, облизав стены.
— Господи! — вскрикнул Кляко.
Неподалеку взорвался одиночный снаряд. Над головой послышался звон.
— Что это ты? — спросил Гайнич.
— В бога мать! — Кляко уже сидел, курил и посмеивался. — Не знаю, как все получилось. Лежал на спине, и вдруг мне показалось, что снаряд летит прямо на меня. Удивительно дурацкое ощущение — снаряд в брюхе. Я мигом перевернулся. Все как-то легче, если он угодит в спину. Эти русские стреляют как боги. Но с меня хватит. Я оденусь. — Кляко встал, зашуршал одеждой. — Гайнич, у меня дрожат ноги. Ой-ой, как трясутся, словно у бабы. Вот потеха-то! — И, выругавшись, добавил: — Сапоги насквозь промокли и воняют. Ноги в них совсем сгниют.
Командир почти не слушал Кляко, но все же тот привлекал его внимание больше, чем хотелось бы. Он сам не понимал, зачем ему это нужно. Когда-то, очень давно, Гайнич думал, что понимает странный характер Кляко, и удивлялся ему. При всяких происшествиях он прежде всего спрашивал себя: «А что сказал бы Кляко?» Оба они были поручиками, младшими офицерами, не имевшими реальной власти. Недавно еще было так: они могли сидеть за одним столом, вместе дуть самогон и немецкий шнапс, который им выдавали в офицерской столовой. Тогда он мог положить руку на плечо Кляко, обнять его и постоянно твердить: «Ты, Кляко, молодец, с тобой и в преисподней жилось бы неплохо!» Кляко на это обычно отвечал: «Ты осел!» Но он, Гайнич, не обижался, потому что Кляко говорил это как-то по-своему, как не сказал бы никто другой, в его словах звучало одобрение, похвала. И он это ценил.
— Нет, никогда мне не надеть эти идиотские сапоги! Они вдрызг мокрые! — ругался Кляко, прыгая на одной ноге и проклиная все, что приходило ему на ум.
Месяц назад капитан Киш сломал себе ногу, и его, Гайнича, назначили командиром батареи. С тех пор многое переменилось. Не все, но многое. Совсем недавно, всего десять дней назад, ему присвоили звание надпоручика. Кляко сейчас обувается, у него мокрые сапоги. У Гайнича тоже мокрые сапоги. Ведь они уже много недель в походе, то верхом, то пешим строем плетутся по грязи, по воде, а до этого шли по бесконечным снегам, делая ежедневно по тридцать километров, и не отдыхали ни одного дня. Неоглядные русские равнины выматывают у них все силы, отнимают желание жить, учат проклинать все на свете и пить горькую. Люди пали духом, ворчат, как собаки, и поручик Кляко как будто ничем не отличается от всех прочих. Останавливаясь на марше, солдаты оглядываются на пройденный путь, и на каждом лице словно написано: «Куда нас гонят? Ведь мы зашли уже так далеко, что отсюда и домой не попадешь». И если Кляко поглядит на такого парня, то захохочет, как дьявол, и крикнет: «Что оглядываешься, Иожо? Татры, что ли, увидеть хочешь? Они далеко, братец. Не бойся, вернешься домой. Вернешься котлетой в консервной, красиво упакованной жестянке, а на ней твои имя и фамилия — чтобы не перепутали. Ценить должен!» И Кляко снова хохочет, словно злой дух, а у людей от его хохота мурашки по спине бегают. Кляко беззаботен, возможно, и смел, но, скорей всего, ему на все наплевать и в особенности на самого себя. Потому-то он непонятен, непохож на всех остальных. «Но я, Гайнич, завидую такой беззаботности…»
Надпоручик слышит, как Кляко звякает пряжкой, надевая ремень.
— Ну, я готов отправиться хоть к черту на рога!
Кляко отворил дверь. Кто-то вскрикнул.
— Валяется, как собака под хозяйской дверью, — раздался голос Кляко. — Соображать надо! Сколько вас тут?..
Дверь хлопнула, послышались голоса, но слов нельзя было разобрать.
— Ушел, слава богу. Скажите, пан надпоручик, вам еще не надоело слушать его ругань? Он выражается хуже последнего ездового.
— Спите, поручик Кристек. Привыкайте! — резко ответил Гайнич.
«Тоже несносный тип этот Христосик. Воображает, сопляк, что у командира батареи только и забот, что обучать подчиненных красноречию. В конце концов, эта скотина Кляко прав: война не духовная семинария». Гайнич прислушался к наступившей тишине, и она ему польстила. Он ее создал, она возникла по его приказу, словно он заказал в баре кружку пива. «Эх, черт! Кружка пива кому не придется по вкусу! Пиво — это да! А Христосик — и в самом деле притих, вздохнуть боится перед начальством. Лопнуть можно со смеху. Уважает меня. С такими христосиками неплохо даже на фронте. Он мог бы сделать карьеру, дотянуть до командира дивизиона, а там, глядишь, и командиром полка стать, чем черт не шутит! Командир полка!» «Генерал Лаудон едет по деревне, генерал Лаудон скачет по полям…» [5] Генерал Лаудон (1717—1790) — австрийский полководец. Его подвиги воспевались в солдатских песнях.
Читать дальше
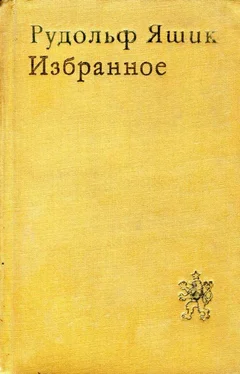



![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/87509/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom-thumb.webp)



