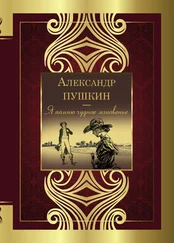Пришла принаряженная, румянец, духи невысокого тела на каблуках, узкие вертикальные прядки до самых бровей, мы сразу притерлись в ходьбе и по росту, когда не чинясь довела под руку до кафе, и так мила за столом в собеседовании: не ожидая с моей стороны разговоров, опытным заподозрив инстинктом — иссяк, без вступления поведала повесть. Судоремонтница-инженер, Николаев, Херсон, ты понимаешь (сразу на «ты», это мне тоже понравилось), у нас не жизнь, пьянь да рвань, безотцовщина, девчонкам бы смыться, жулье и наладилось на помойке, пооткрывало бракопродажных контор. Там все девки наши записаны, с детьми, без детей, от кого кто родил, иностранцы, ваши евреи, наехали, больной, сумасшедший в коляске, а туда же, к послушному украинскому мясу. Ну, не такое оно и послушное, сбегают, денежки прихватив, я сама бы сбежала, а ты не сбежал бы, покупают за мясо, хоть больной, хоть в коляске, хоть нищий на грош подманил, а куда дуре деваться, дома рты, ребенок и бабка, отец с братом в тюрьме, девчонки и рыщут, фотки делают, обнаженку. Наши кончились мужики, на зоне, на кладбище, полный… — и еще в социальном роде о язвах, от чего на меня нападает зевота, но интересный гелиотропизм девушек, поворачивающих головки к солнцу, дабы, погревшись, улизнуть в золотом блеске, впечатление произвел. В кино показывали комикс Человек-паук, дети и молодежь выходили приподнятые, подражая ловкому насекомому. Играли кларнет и гитара, тамбурин и бузуки, капризно брал песню певец. Гудки парохода на рейде, ответное слово баркасов. Ложечкой она потоптала мороженое, пригубила трехцветную кашу, отложила орех и цукат на десерт. В агентство к жулью не пошла, в подлые их глаза, девчонок сбывают хуже скота, девки ядреные, спелые, любой был бы счастлив, с ее-то фигурой, все, слава богу, свое, не обвисло, иностранца раз плюнуть найти, три тысячи взять, они, Сань, три тысячи нам по контракту должны, три тысячи долларов, говорю, и проверь за границей, живешь ты с ним, не живешь, ищи за границей хорошего, не придурка. У нее в Лимасоле был из Пирея, специально приезжал, помог официанткой к хозяину в Пафосе, брачные конторы она ненавидит, девок что лошадей продают. Сейчас пересменка, мать и малáя в Херсоне, она тут одна, без подруг, это, что ли, подруги. Красное сухое мы как-то споро прикончили, моя доза скромней, рюмка-вторая на Пурим и по церковным в годовом кольце обращения, мудрено ли, что я окосел. Ей неплохо в кафе у хозяина, не обижает, только мало что остается, все дочке и матери. У меня нет ли фунтов шестидесяти до четверга, получит по-черному и отдаст. Вино во мне продолжалось, едем, объявил я, в гостиницу, она махнула таксисту, поехали к ней. В машине выгреблись три бумажки, дважды по десять и пятьдесят, быстро, я не так все же был пьян, чтобы не оценить эту небрежную цепкую быстроту, убранные в бумажник, где мелькнуло минимум столько же.
В Пафосе далеко не отъедешь, во все концы пять минут. Синяя дверь в переулке, отпертая желтым ключом, полторы опрятные комнаты, в которых, по неуловимым приметам — уловимым отменно, это лживые обороты приблизительной речи, — бывали мужчины, но разные, непостоянно и не из тех, что стали бы ревновать, тем паче устраивать слежку. Плеснула в кофе коньяку, я выпил, то ли взбодрившись, то ли пуще просев, разница стерлась прежде того, как, выкурив длинную белую сигарету, она велела расстегнуть ей молнию сзади, выволоклась, не растрепав прическу, из платья, не целясь нащупала у меня легкое вздутие слева и через брючину потерла. Помогла раздеться, потащила на ложе. Ее тридцать с хвостиком тугой налитой, ее с плотным хвостиком плотной тугой налитой, не просто так просто раздавшейся малоросски тянули на сорок один, прыскала тепломолочная грудь, ласкалось белье, но услада — услады в ней не было. Гнет, бродящие соки, зажим, но не это. И, воздав за старательность, за то, как наваливалась, тормошила губами, садилась раздвинутым входом, как, подняв таз и бедра, руками отталкивалась от ковра на стене, как, после того повернувшись спиной, брала мои пальцы теребить ей соски, спускаться в курчавость, раздражать поршневыми движениями мокрую расщелину промежутка, для чего опять легла на спину, согнула в коленях, раздвинула ляжки, от чего простонала впервые за близость, а я исторгся вторично, — я, за все ей воздав, уснул в луже с названием «все равно», «мне почти все равно», потому что услады не встретил.
Солнце разбудило в начале девятого, она забыла притворить жалюзи; потом телефонный звонок, напряженно и скрытно, будто я понимал, пролопотала на ломаном греческом, легла, успокоенная, запустившись мне в пах. Голый, прошлепал в сырую уборную, демонстративно дернул за цепочку слива. Побаливала голова и неприятно изо рта, выместить злость, пока не нагрелась колонка. Тебе в туалете шпаклевка нужна, посоветовал с неприкрытой мотней, словно намерен был пользоваться или же волновался о ее во всех смыслах удобствах. Ты чего маешься, накинула мне на плечи великоватый халат, выпей, завтракать будем сейчас; я хлопнул по-водочному рюмку вчерашнего коньяка, поперхнулся, закашлялся, но размяк, гуморальная подлость отхлынула. И в кухне, когда разбивала и взбалтывала яйца омлета, прижал потеплевший перед к ее широкому заду. У меня руки заняты, болтая ножом в пиале, как-нибудь сам в нетерпеж, только смотри, не забрызгай, позавчера покупала, я не забрызгаю, и — заело, осечка, морально не смог. Со вздохом убрал, она по-домашнему встрепала мне лохмы ополоснутою под краном, не охолонувшей от масла, яиц, молока пятерней. Предложила за чаем в кинематографе Паука, на Сеферис диско-бар, парнишкин из Никосии, заводной такой рыжий, отец его в Афинах повесился, а перед этим наелся долмы, можешь представить себе, что там было, или в горы на выходные, греки сдают незадорого домики, у нее были планы. Мы созвонимся, я ведь не уезжаю.
Читать дальше









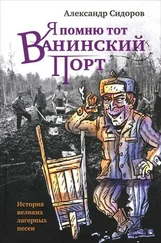
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)