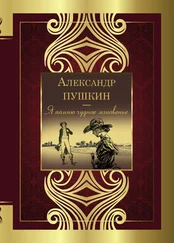Прекрасно одетый француз обнимался с прекрасною азиаткой, не в пример большинству в ее расе высокой и удлиненной. Особенно стройные, я бы сказал, справедливых пропорций, непродажных при всем ремесле, были ноги в ажурных колготках, в туфлях, как у Шелале, на каблуках. Итак он ее обнимал, они обнимались, чернобровый нарядный француз с назойливо выпирающим носом и юная, свежая азиатская женщина, но отчего ж она вскрикивала, вырывалась, чуть ли не плача на смеси французского и английского, прося не делать ей больно, буквально-таки содрогая скамейку в его могучих тисках. А когда он по собственной воле, нисколечко не разжалобленный, разъял свою хватку и, одной левой легонько притиснув, правой принялся тыкать в нее, насмехаясь, она с ним осталась, парализованная, всхлипывающая от тычков. Мерзавец колол ее острым. Заточкой, маникюрной пилочкой или гвоздем, разбери. Его сдвиг, его бзик, такой обаятельный, что подмывало на публику, а всего только я, неопасный свидетель. Мурлыкал, насвистывал, вот засопел, в нем назрело. Она взвизгнула по-дворовому, ошпаренной кошкой, он отвалился, насыщенный извержением, для верности дважды ударив, по скамейке и ее по лицу. Азиатка бежала, держась за плечо, я улепетывал, еще как. Бахаулла, луч утешения и прощения, во храме гробницы своей всем нам помог. Ветер с воды обдул щеки и лоб мокрой пылью. Я вышел в городские улицы, торговые ряды Лимасола.
В толчее города в городе, из множества параллельных, множества сходящихся под углом коммерческих линий, на закате, раньше, чем родосские, завешиваемых жестяными ребристыми простынями, продавали кожу и мех, гончарную глину, лефкарику, зеркальца в медной оправе; надписи были также на русском. Что уже ни к чему, но логично, законно. Я приехал из-за границы, не из России, в которой не жил, и домой вернусь за рубеж. А мой сурок со мною. Русская речь, ты одна итд. Купил наволочку со стеклярусом для диванной подушки и несложно, артериальными лазами пробрался в бульвар Диадохов. Я узнал его сразу по преддождевой, бликующей слабыми фотовспышками пасмурности, смешавшей тоску с ожиданием мира, по ромбовидным плиткам и платановому солнцезащитному пологу, по особнякам в тихих нишах и помпезному, в греческих статуях, караваю Меркуриального общества над бульоном фланеров, наперсточников, зазывал, чудаков. Киоски предлагали лукуми и прессу Архипелага, в сторонке, отдельными веерами и стопками, блестели любострастные карточки. Чирикали, возмущенно картавили попугаи, от суетящихся крохоток до исполинов с когтями и клювами во всю клеть. В зеленых кубах, декорированных цветными камнями и водорослями, плавали черепахи. Удоды и кролики, ибисы и шиншиллы относились к ним равнодушно. Стилеты на шалях, кувшины окутаны благовониями. Я насыпал монеты в копилки неколебимых фигур, костюмированных египтянина, астронавта, китайского лозознатца, ландскнехта; обрадованные, конвульсивно кривлялись. Драл глотку человекопетух в желтом гребенчатом шлеме. Взмахнул красными крыльями из бумаги, высунул набок язык. В шутку на него напустился жонглер, погрозил булавами. Шалил наваксенный негр, запел спиричуэл. Аплодисменты. Петух клюнул в зад, отпрыгнул, фальшивая негрская нота. Хохот, семейственно на прогулке. Погода какая, гуляйте, гуляйте.
Герметизм нумизматики исключал мое пребывание в клубе, за непрозрачным стеклом с колокольцем. Мог ли я что-нибудь предъявить, я, не державший в руках ничего кроме парфянского Артабана, затоварившего коллекционные рынки Европы, екатерининской полуполтины и серебряного рубля 1818 года, подаренного теткой на зубок. Для меня была шахматная кофейня, две комнаты и веранда, причал атакеров, блицеров, изгоняющих жертвами пресные позиционные плюсы. По радио в баре ликовал гранд-финал «Let the Sunshine in» из пацифистского мюзикла, в контргамбите Фалькбеера мне сопутствовал переменный успех. Переводчик с французского говорил, что счастье это жить с Олей Эн, актрисой муздрамы, по мне это шахматная веранда в греческом Лимасоле на Кипре и лампадки-светильники на столах к чашке крепленного чая. В сумерках я доплелся до спальной окраины.
То было несколько, в количестве не более пяти, коробок для нижесреднего слоя на совершенно безлюдном, как будто никто здесь не жил, наспех прибранном, все же лениво замусоренном участке уснувшего обитания, к ним пара не нынче запертых лавок, бакалея и хлеб, бездействующая остановка автобуса и уголок бесполезного в этих условиях детства — качели, песочница, лесенка, поднимешься-съедешь по жолобу. Никого, лишь собака, незлобно осклабленная, порылась в чем-то, что поманило питательной кучей (а запах? а хваленое обоняние зверя?), и проковыляла, голодная, в даль. Пока я озирался, стемнело, фонари не зажглись, не загорелись и окна. В не освещенном ничем одиночестве на бордюре песочницы я смутно представлял обратный путь, затерянный в улицах, переулках, дворах, тупиках. Час миновал, стало ветрено, холодно, взметнулись обрывки бумаги. Резь в паху, помочился в песок, задев струей давно забытую ребенком лопаточку. Никто не вышел из домов, никто не зашел, молчали темные окна и фонари. Лист газеты, пометавшись, унесся, грохотала незакрепленная вывеска. Через два дня, проведенных в полудреме у моря, я попросил отвезти меня в Пафос, так и не повидав захиревшую Фамагусту.
Читать дальше









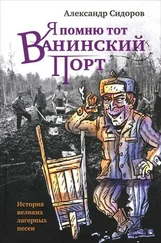
![Александр Афанасьев - Помни имя своё! [litres]](/books/394998/aleksandr-afanasev-pomni-imya-svoe-litres-thumb.webp)