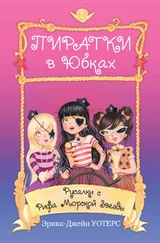Бабушка спала крепко, голос мальчика был бессилен вырвать ее из омутов сна. Уже привыкшим к темноте глазам Маккавея ее сухонькое, изборожденное морщинами лицо казалось твердым комом земли, потрескавшимся от немилосердных лучей летнего солнца…
Весна ушла. Бурные ливни сорвали цветы плодовых деревьев, а потом засияло солнышко, стало припекать по-летнему, и над всем поречьем поплыла серебристая дымка, которую в этих краях редко увидишь, разве что поздней осенью, когда с утра выпадает обильная роса и дымится до полудня под лучами солнца. Мама выздоровела, но после болезни возненавидела запах ванилина и поджаренного миндаля и в оставшиеся ей немногие годы жизни (кто мог предполагать, что все произойдет так внезапно: прободение аппендикса — и… конец) она ни разу не замесила теста для куличей. Прислушивалась к тому, как громыхают перед пасхой квашни за запотевшими от несусветной жары окнами соседних домов, смотрела, как дымят во дворах печи, и с усмешкой думала о человеческой ненасытности: этими приплюснутыми, пригоревшими в духовке куличами можно было накормить целую армию… Мама готовила для праздничного стола другие лакомства, и если кто из соседок приносил кусок кулича, она не подавала его на стол, а после обеда выкидывала кошкам.
Мальчик тоже выздоравливал. Кошмары, навещавшие его каждую ночь, пока хворала мама, да и позже, стали рассеиваться. Сны приходили радостные, светлые. Маккавей либо купался в реке с такой прозрачной водой, что было видно, как на дне заводей шевелятся тени ивы, либо гулял по омытой росою траве, и в каждой росинке отражались его рыжие волосы — куда бы он ни взглянул, перед ним вспыхивали робкие огоньки. С назойливым постоянством его сны посещала кукушка. Неожиданно вылетала откуда-то, ее пронзительное «ку-ку» эхом прокатывалось по котловине и долго не могло стихнуть. Маккавей забыл о крысе, не думал больше о червяке, который испоганил кулич. И лишь воспоминание о том, как кукушка промчалась над мамиными коленями, оставив в складках платья черный, точно прожженный сигаретой след, приводило его в трепет, нагоняло смутное предчувствие беды, которое закрадывалось в сердце, едва сон касался его век. Образ этой беспокойной, преследовавшей его птицы, чьи крики заполняли небо, связывался у Маккавея с мыслью о бабушке: стоило ему заслышать над головой шорох кукушкиных крыльев, как перед ним возникали устремленные вдаль старушечьи глаза, в которых светились ожидание и ненависть…
Уже давно выветрились из памяти бурные ливни, когда прибывшая вода подмывала берега Огосты. Погода установилась. На ранних черешнях уже появились первые розовые сережки, мальчишки, обдирая колени, карабкались на гладкие стволы, и губы их пряно пахли летом и черешневой смолой. Песни лягушек, ночи напролет оглашавшие озерки за рекой, стихли, оборвались. Подступало лето — с иными запахами и звуками более густыми и прочными, с иными птичьими голосами, — но среди заколосившихся нив под высоким небом по-прежнему царила песнь жаворонков. От заводей тянуло рыбьим запахом. По вечерам, когда закатное небо смотрелось в реку и тишина ощущалась не только в неподвижности водной глади, но и в пурпуре отражавшегося в воде неба, начинала резвиться плотва. Это значило, что лето уже близко.
У сельских ребят были любимые заводи, где они обычно купались. Одна из них находилась на западном краю села — неглубокая, с дном, устланным мелкой галькой. В том месте, где она подступала к карстовым склонам холма, вода всегда была холоднее — там бил ключ. В этой заводи купались ребятишки поменьше. Вода была им по грудь, и неумелые пловцы могли без всякой опаски не только окунаться с головой и елозить по дну с открытыми глазами, наблюдая, как мимо проносятся золотистые рыбки, но и прыгать со скалы туда, где поглубже, зачастую обдирая о песчаное дно носы и лбы.
Другая заводь лежала у железнодорожного моста. Вклинившись в глинистый берег, она переходила в большую подводную пещеру. Высокая осина, которая еще удерживалась на берегу, хотя река долгие годы подмывала ее корни, затеняла заводь — и то ли из-за глубины, то ли из-за зеленоватых сумерек, струившихся сквозь ветки старого дерева, заводь всегда казалась темной.
Каждый год в половодье глубина заводей менялась. Там, где прежде было мелко, вдруг обнаруживались ямы, возникали водовороты. А где год назад темная толща воды отпугивала детвору, дно заволакивало тиной, и нанесенные вешними потоками камни заполняли подводные пещеры. На месте прежних пугающих глубин лениво шевелились пескари, и было так мелко, что с берега можно было разглядеть крохотные пузырьки воздуха над их жабрами.
Читать дальше