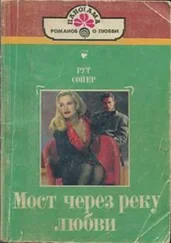— Господи, распарился-то как!.. Гнался за тобой кто?.. — ужасается мать.
— На лыжах… Иначе и зачем бы домой ходить?
— На лыжах? Откуда достал?
— Учитель выдал. Всем.
— Так бежать! Промок весь. Еще хворь прицепится.
Отец молчит, барабанит пальцами по столу.
— Сейчас, сыночек, сейчас, проголодался небось, — кажется сама с собой беседует у печки мать.
— Нет. Совсем нет.
Паренек поднимает со стола и раскрывает «Крестьянскую газету». И здесь — Лидия Скобликова! Словно застеснявшись чего-то, он быстро закрывает газету, отодвигает ее и теперь замечает на столе фотографию: засунув в кирзовые сапоги широченные черные штаны, черный и исхудалый, стоит его брат, надвинув на глаза ушанку. Печальное, почти плаксивое выражение лица. Переворачивает фотографию. На обороте надпись: «Бегут солдатские дни. Мурманск, 15.II». Снова переворачивает фотографию. Почему так печально глядит брат?
— Письма не было?
— Нет, на сей раз не было, — говорит отец. — Одна карточка.
Потом они оба ужинают. Едят молча, отец дважды бросает взгляд на фотографию, отодвинутую к подоконнику. Сквозь трещину в стекле дует ветер, студя еду. Мать сидит возле теплой стенки, сложив руки на коленях.
— Когда обратно-то? — спрашивает она.
— Завтра.
— С самого утра? — неся ложку ко рту, медленно произносит отец.
— С самого. Пораньше надо. Репетиция.
— Ой! Что я тебе дам? Хоть шаром покати. — В голосе матери — неуверенность.
— Что? Что? — отец как будто сердится.
— Да не надо мне ничего! — громко заявляет паренек.
— Это мне знать, надо тебе или не надо. Кажется, Гвильдис вчера свинью заколол… Схожу и попрошу.
— Отец!.. Уже поздно…
— А ему уезжать спозаранку. Не так еще поздно. Я мигом.
И отец поднимается со стула, нахлобучивает шапку, надевает тулуп. Скрипит дверь, темная тень отца ползет по двору, слышны шаги. Паренек смотрит в окно, в сумерках видно — вот отец уже торопится к сеновалу, наклонясь, расставив руки, и у паренька перед глазами мелькает фотография, увиденная в газете.
Учитель уже завернул за угол нового здания школы. Не ахти какое здание, однако все так называют: побольше здания пока не наблюдается. Под ногами шуршала свежепосыпанная гравием дорожка. Готовятся уложить цементные плиты. Небольшой камешек выскочил из-под каблука и попал прямехонько в желтую кожаную туфлю учителя. Он, нервничая, зашевелил ступней, пытаясь продвинуть камешек к пальцам, чтоб не так кололся, однако камешек катался у самого сгиба подошвы, щекотал и мучительно колол, пришлось разуться. Наклонившись, учитель сперва попытался вытащить ногу из ботинка, не развязывая шнурков, но это не удалось, да и жаль было мучить почти новую обувку, поэтому он со злостью расслабил шнурок, нога оказалась на свободе, сама выскользнула из туфли, из которой, когда учитель приподнял ее, выпал на тропу белый камешек величиной с ячневую крупинку. Завязав шнурки, учитель выпрямился и посмотрел прямо перед собой, через дорогу (ее еще предстояло пересечь), где на пригорке в окружении цветущих вишен стоял приземистый домик — там находится его класс; несмотря на то, что рождаемость уменьшилась, в этих краях детей еще рождалось много, и даже в кирпичной пристройке довоенной гимназии все не умещались, поэтому два класса занимались в домике, доставленном после войны с лесной опушки, с берега Жальпе. Сделав несколько шагов, учитель вдруг остановился, носки его желтых туфель, проехав дальше, вонзились в гравий, а он подался всем телом вперед. Вернувшись, он хотел отыскать камешек, терзавший его ногу, но не нашел, схватил первый попавшийся и запустил в куст сирени. Камешек был небольшой, испугался только один воробей, который, противно чирикая, улетел в ту сторону, где был городок. Теперь учитель шел быстро, его изображение замелькало в чисто вымытых окнах пристройки из силикатного кирпича, за этими окнами ученики уже успели сосредоточиться, лишь немногие из них заметили опаздывавшего на урок учителя. Да и сам он, проходя мимо последнего окна, покосился на свое изображение в темном стекле и не разглядел лица, заметил только, что совсем сносно выглядят вельветовые штаны, не так давно купленные в Латвии.
Разве не издевательство над плохим его настроением — так цвести, да еще в такую рань! В иные годы все кусты и деревья в такую пору еще торчат черные, синие, лиловые, а теперь — всякие сережки на них болтаются, почки набухли, а уж цветенье! Пенится, бушует, искрится белизна цветов, колышется, словно одеяние танцующей красавицы.
Читать дальше