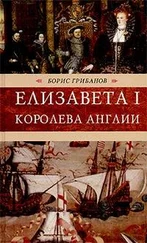Мою любимую куклу звали Таня. Мне было пять, ей – два. Я была на три года старше, и я была ее мамой. Когда ее подарили мне, мы обе были блондинками. Мои волосы потемнели, а ее – остались такими же, не седели от пыли. Каждую неделю я мыла Таню шампунем из мыльных пузырей и зубной пасты. Я была хорошей мамой.
У Тани не было платья – я его потеряла. Ей было очень комфортно в своей пластмассовой наготе. И она никогда не простужалась. Ни разу! В отличие от меня. В отличие от меня, она не капризничала и ела все, что ей предлагали: одуванчики, песок, а один раз – земляного червяка.
Я рассказывала Тане сказки. Те сказки, которые знала. Про гирю от часов, про девочку, которая поела немытой черешни, – чтобы Таня не вздумала есть немытую черешню! Я рассказывала эти сказки Тане, потому что была хорошей мамой и еще потому, что иногда страшно хотелось поесть немытой черешни или оторвать гирю и посмотреть, что будет…
У Тани были зеленые глаза. И ямочка на каждой щеке. Папа пообещал, что у меня тоже будут ямочки. Когда вырасту. Я не хотела ждать. И, стоя у зеркала, давила на щеки указательными пальцами.
Однажды мне подарили тряпичную, роскошную Пеппи. Большую, рыжую, с улыбкой до ушей. Я ее возненавидела. Она угрожала Тане – замызганной, голой, растрепанной Тане. Я стала брать Таню с собой в постель, а Пеппи оставляла без сладкого и ставила в угол.
Иногда я лежу и пытаюсь представить себе смерть. Значит, меня не будет – но тогда ничего не будет – если не будет меня. А если бы и не было ничего? Никогда. Сочетание – ничего и никогда – самое загадочное и манящее. Это не черное, не яма, в которую падаешь, это ничто – скорее белого цвета, зияющее белое ничто, но ведь если нет ничего, то и белого нет, и слова «ничто» тоже нет… и в этот момент становится так страшно, что невозможно больше думать об этом, надо съесть что-то или погладить кошку, или обнять Таню – тогда сразу понятно, что все – глупости, вот Таня: она закрывает и открывает глаза, пахнет моим шампунем, у нее гнутся руки и ноги, значит, есть что-то, а что-то уже не может стать ничем, исчезнуть в ничто – так не бывает.
А можно дать волю страху – погрузиться в это манящее, слепяще-белое, и чем страшней, тем дальше заходить туда, проваливаться в белое ничто, и горько заплакать, так сильно, чтобы мама прибежала из кухни, утешала и уверяла, что я – буду всегда.
В мае над городом летал тополиный пух, а по нашему дому летали белые листы бумаги. Они были почти как голуби, только с морщинами синих помарок и черным шрифтом печатной машинки. Я думала: голуби, которые постарели. «Сколько рукописей», – вздыхала мама. Она ловила голубей и сажала в картонные клетки. Папа осторожно складывал в ящики книги, бережно сдувая пыль. Те книги, чьи обложки были потертыми, как изношенные воротники, книги, которые выглядели усталыми и больными, – он переплетал заново. Папа был книжный врач, а у мамы летала бумага. Я боялась, что бумажные голуби вылетят в открытое окно и не вернутся.
Не только бумага летала по дому. Со свистом, проносились мимо слова: «ОВИР», «разрешение на выезд», «гражданство». Эти слова вихрем неслись на меня из прихожей, поднимались с водой из кухонной раковины, осыпались, как нафталин, с нашей зимней одежды…
– Там апельсины растут прямо на улицах, – сказал папа, – и нет снега. Даже зимой.
– А Тане там понравится?
– Понравится, – обещал папа, но как-то неуверенно.
– Там полным-полно бананов, – уговаривала мама, – так много, что ты сможешь их есть хоть каждый день!
Я очень любила бананы. Мама часами стояла в очередях, возвращалась с двумя-тремя бананами, а я пыталась растянуть удовольствие – ела по половинке.
Там полно бананов…
– Родину за бананы не продают!
– Что, по-твоему, родина? – удивилась мама.
– Это там, где тебя даже кусты помнят.
Гуляя во дворе, я подошла к кустам и спросила: «Вы будете меня помнить?»
Я думала, что со мной все будет хорошо, пока живу между папиными сказками и мамиными, балансируя, как на валике от дивана: прятать иголки в шкатулку – аккуратно и любить круглые и гладкие мотки ниток, трогать бисер на шкатулке и перекатывать на языке это слово – «бисер». Но оказалось, что этого мало – надо еще и придумывать свои правила, соединяя мамо-папины сказки в свою – одну. Балансировать на валике от дивана – всерьез, и с него перелезать на стул, оттуда на матрас – главное, не ступить на пол. Главное, не задавить солнечного зайчика на паркете. Главное, чтобы были зима и лето, и выполнять зимой все зимние радости, а летом – летние, и осенние – осенью, а весной нюхать воздух – это главная весенняя радость. И какой может быть мир без зимы, мир без снежков и снеговиков, без вкусных сосулек и заснеженных перчаток, мир без белых следов и рыжей шубки, без колготок, которые сушатся на батарее, без заледеневшего стекла? Как может не быть зимы? Она, как и Таня, не может вдруг исчезнуть, если была, то она есть всегда. А если зимы нет, то сразу после осени весна – но как тогда нюхать воздух, чем он будет пахнуть? Как отклеивать окна, если они не были заклеены? Как ждать первой травы, первых листьев, если они никуда и не девались? Отсутствие зимы все сбивает – это против правил, это невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу