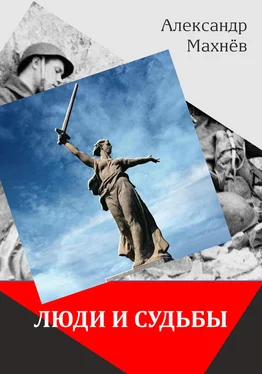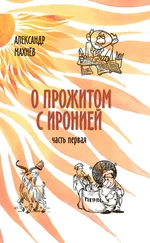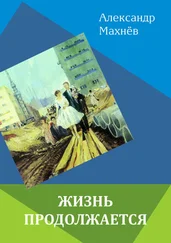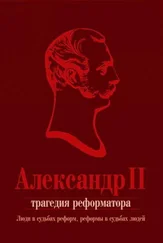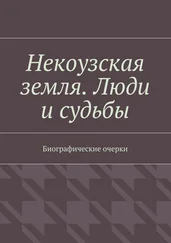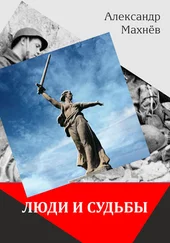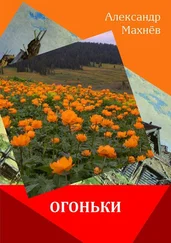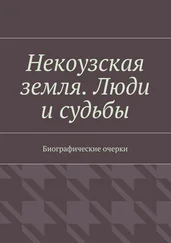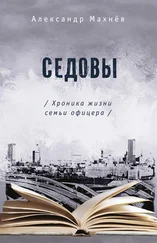Пролетел год. Крепла страна, росла её экономическая мощь, поднималось хозяйство на селе. Вместе с тем жилось тревожно. Шла война с финнами. На западе шаг за шагом гитлеровские войска приближались к границам СССР. Тревожно жилось. И вот комсомол в очередной раз объявляет набор в пограничники. Границы Родины надо защищать. По комсомольскому набору Глеб Николаевич отправляется в школу младших командиров погранвойск НКВД под Ленинградом. И здесь, в военной среде, Глеба Николаевича вновь называют Учителем, хотя и не только так, ещё и Николаичем звали. Его-то, по возрасту пацана ещё, а так уважительно по отчеству величают! О многом это говорило. Грамотен он был, никому не отказывал в помощи, политически был весьма подкован, да к тому же комсомолец. А Учителем звали – т ак это не прозвище вовсе, это именно дань уважения его образованности.
К сожалению, не успели Глеб и его товарищи закончить учёбу. 22 июня 1941 года началась война.
С первых же дней он на фронте. 28 июня в Бологом его часть грузится в эшелоны и в составе 118-й дивизии перебрасывается под Псков. С 11 июля они под Гдовом, на восточном берегу Чудского озера. В бою 16 июля красноармеец Попов контужен. Очнулся Глеб пленным. Не пристрелили его, когда зашевелился. Патрульная команда немцев, подняв, погнала его и сотни таких же, как и он, в лагерь. Лагерь – это громко сказано, на самом деле это было густо огороженное колючкой поле: ни тебе навеса, ни тебе каких строений, всё временно, но всё надежно, не вырвешься. В течение трёх недель дважды он побывал в аналогичных загонах, затем в «скотовозах» пленных доставили в Новую Вильню, небольшую железнодорожную станцию в десяти километрах от Вильно. Здесь их ждала та же колючая проволока, правда, место было более обустроено, нежели лагерь под Гдовом. Охраняли лагерь немецкие солдаты старшего возраста, так что особых издевательств над собой пленные не чувствовали, всё же люди постарше более разумны в своих поступках. Внутри лагеря царила иерархия землячества. Командиров, коммунистов не было, или пленные о своей принадлежности просто умалчивали, а потому здесь первичным было землячество и внутри него возрастное старшинство военнопленных. Их, тамбовских, здесь было немало, впрочем, как и ленинградских, псковских и других. Сошёлся Глеб с парнишкой, Фёдором его звали. Был тот родом из соседней с его Карай-Пущино деревней. На два года Фёдор постарше, мобилизованным был и армейскую кашу до войны ел уже полтора года, крепок физически был этот солдат. Вот с ним-то и замыслил Глеб побег. Особо никакой стратегии не разрабатывали. Так, узнали, где восток, туда и наметились, ждали только удобного случая. А как только поняли, что можно попробовать, и бежали. Дождались темноты, осторожно пробрались под проволокой и айда в ближайший лес. Побег замечен не был, тогда пленные ещё не переписывались немцами, просто считали их из-за проволоки, да и всё, так что плюс-минус пара солдат ничего не значило. Тревогу никто не поднимал.
Уже в лесу парни поняли – удача на их стороне, и этим стоило дорожить. После небольшого размышления решили идти лесом и только по ночам, идти в сторону зарева. Но что значит – решили? Питаться чем-то надо было. Договорились деревеньки не огибать. В старой Литве хуторов, малых хозяйств – уйма, так что с голоду они не умерли бы, точно, но кулаки и прочие хозяйчики сдать могли немцам, парни это понимали.
И вновь им повезло. Первым на их пути было старообрядное становище поморов. В поселении было семь строений. Пустили их хозяева, накормили, одёжку старую дали. Поутру старик, видать, старейшина, посоветовал не заходить в богатые хутора и указал, как идти к их соседнему землячеству, что в полутора десятках километров в сторону фронта. А ещё посоветовал на худой конец, если поймают, ни в коем случае не признаваться, что они беглецы, в крайнем случае – «говорите, что вы бывшие советские пленные, их много было на строительстве военного аэродрома рядом тут, будьте осторожны. Да поможет вам Бог». С этим напутствием Глеб и его спутник ушли. Несколько дней пробирались они к фронту, но фронт всё отдалялся, уходил на восток, и уже непонятно было, что ждёт их впереди. И вот на пятый день побега сдали их в одном из хуторов. Утром у сеновала, где они ночевали, стояли полицейские. Их привезли в каталажку как раз того города, рядом с которым строился в мирное время аэродром. Так что их версия, подсказанная на первом хуторе, прошла, да ещё двое местных селян, понимая безвыходность беглецов, подтвердили, что действительно видели этих бедолаг грузившими в телеги камни и грунт на аэродромной площадке. Больше их не проверяли. В лагерь теперь их не определяли, а передали в хуторские хозяйства помощниками. Хутора, а впрочем, все сельские подворья, обязаны были поставлять немецкой армии продукты питания, так что такие помощники крестьянам были нужны. Хлопцы, уже сдружившиеся в общей беде, расстались.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу