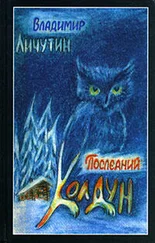Горенка была розовой от солнца и брусничных платов, и в этом розовом рассеянном свете, как успел заметить Баринов, потерялись все очертания и тени. Чувство ожидания, оказывается, в нем было столь сильным, так напряглась его душа, что, когда колебнулась первая волосяная струна, исторгнув лишь призрачное напоминание звука, Пиотр Донович больно вздрогнул сердцем и захолодел. Это Домна слабосильным издерганным тенорком пугливо подступилась к песне, попробовала зачин на слух и, словно бы побоявшись одолеть его, тут же и споткнулась, плотно свела рот в голубенькую оборочку, стыдливо оглядывая товарок и сзывая на подмогу. Но слово, выпущенное на волю, обратно не поймаешь: оно, рожденное, имеет особую власть и иную силу в себе несет. Не умерла песня: поймала Параня волосяную струну и на самом крайнем ее дребезжании вновь колебнула хрипло, басовито, по-мужицки как-то:
Ты, талань моя, талань,
Талань-участь горе горькая…
И тут подхватились, встрепенулись, очнувшись от оторопи, будто в трубы ударили восемь бабьих изношенных голосов, но, сведенные воедино, они так грянули, что тесно стало в горнице, и окна в тугих обмерзших переплетах звякнули готовно, радые выломиться наружу, чтобы выпустить песню. В розовом колеблющемся незимнем свете родилось что-то громоздкое, душное, неуемно-вольное; запласталось оно, заходило кругами по горенке, пробуя крепость молодых крыл, плеснулось в стекла и, разглядев там иную стихию, внезапно заробело, откачнулось, рассыпалось по-за углам, бессило упало на зеркально-охряной пол — столь желанной и недостижимой почудилась, наверное, небесная шелковая волна.
Тихо шелестел магнитофон, мотая пленку, помощница Баринова торопливо писала, смачивая языком быстро пересыхающий бескровный рот, призакрыв глаза, откачнулся к стене Пиотр Донович.
На роду ли талань уписана,
В жеребью ли талань выпала…
«Крестом молюся, крестом гражуся, крестом боронюся» — так говаривали прежде. Но не крестом, а песней жив был человек во веки веков. Пиотр Донович вроде бы уж и не слышал самой песни, сквозь реденькие реснички проникая в розовый свет, до краев налитый отчаянной тоскою. «Нет-нет, — поправил себя, — крестом и песней, любовью и состраданием жив был, ибо это и есть человечья текучая и неизменная душа. Куда она течет? В какие формы переменяется она из веку, сохраняя содержимое в себе. Изыми из нее крохотную долю ее, пусть и самую ненужную для видимого счастья, тоску иль гнев, например, и тревожно станет тогда человеку поначалу, а после мертвой пылью засыплет сердце и онемеет оно».
Смутно было Баринову и до слезливого умиления грустно — такое редко случалось с ним ныне. И, поддавшись этой странной необъяснимой печали, он словно бы и сам возносился на гребне песни и вместе же с нею катился в темную бездну. «Какой, однако, кладезь — полный всклень голосами, музыкой, стихией, страстью — наша русская душа, — восторженно думал Пиотр Донович. — Это ж она, однако, и родила песню особого склада и покроя, коей не отыскать во всей Европе, смею уверить всякого. — Баринов был сейчас в своей обители туманных рассуждений. Он любил, как бы оторвавшись от земли, зависнуть над нею и обнять взглядом ее расплывчатые очертанья, чтобы отдельный человек с его раздерганностью, тоской и неустроенностью не отвлекал от фантазий. Он уже спорил с кем-то невидимым и пальцем, желтым от никотина, сбивал пену, выступившую в потресканных углах рта. — Нет-нет, милейший, смею уверить. С натурой раба, с психологией раба долго ли бы наша нация выстояла? Раз по шапке — и пиши пропало. Я полагаю, внутри у русского человека нескончаемая воля живет, потому он за отечество и головы не щадил, потому и тянул свою лямку, как бы ему ни натирало хомутом. У раба, скажу вам, милейший, не родилась бы такая богатая песня. Простор в песне, страдание в песне свойственны лишь той просторной вольной натуре, которая произошла и произросла на просторе…»
А старушонки разошлись, разогрелись каждой жилкой увядшего тела, и в груди, тряпошно обвисшие, та новая сила притекла, о которой разумом и не помышлялось, и каждая песенница, задорясь перед товаркой и стыдясь унизиться перед нею слабосильем своим, доводила себя до того похвалебного счастливого азарта, который достигается лишь через песню, близкую душе. Пели бабы так высоко, на вынос, в столь тоскливом потяге додымали голос, напрягаясь до вздутых жил на лбу, до испарины багровой, что думалось невольно и опасливо — вот вскинься еще чуток, самую крохотную малость взойди выше своего предела, в таком порыве теряя всякое разуменье, и голос надорвется, сломится, и после уж смертная тягостная тишина наступит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу