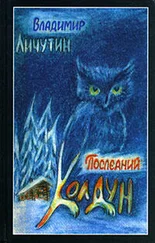— Когда поешь, то распоешься. А если не петь, то исключительно на легкие выходит, — возразила Параскева Осиповна, сгоравшая от ревностной обиды, что вот Домнушкину избу облюбовали под спевку, а не ее дом. — У меня в груди жженье, я уж петь не буду, как ты хошь. — И с таким вывертом, по-извозчичьи матюкнулась, что даже старухи потупились, зарделись. Ну, Домнушка и упрекни:
— Женщина матюкнется, дак мать пресвятая богородица на престоле не усидит. Так ранее говаривали.
— Не тебе меня и учить, трясогузка хренова, — отрезала Параскева и умчалась, только ее и видели.
И как ни обхаживал Баринов — и чаем-то обнесли, и конфетами потчевали городскими, — однако все старухи друг по дружке пошли из дому прочь.
— Если уж Параня петь не будет, то и мы не запоем. — А погода была слякотная, мрачная, дымная хмарь стояла низко над деревней, казалось, что посреди зимы прольется вдруг обложной дождь…
И вот все так чудесно устроилось, и солнце огненного расплава всплыло ныне, и Параскева Осиповна внезапно сменила гнев на милость. Пришла в шубейке зеленого атласу, да в штофной юбке до пят, да в парчовой повязке, унизанной бисером, и еще с порога завыхваливалась:
— «Ой, все бы пела, все бы пела, все бы веселилася, все бы под низом лежала, все бы шевелилася. Ой, мяконька, ой, мелочна песня…» — Выпела сипло, резковато, а сама меж тем зорко глянула в сторону Домны, ожидая, как та себя поведет. Но смолчала хозяйка, сердечно улыбнулась пушистыми глазками, неясно склонилась перед гостьей, и Параня довольно отмякла, посередке горницы села на венский стул, высоко задирая штофную юбку, чтобы не измять, и Баринов невольно усмехнулся тайно, увидев на ее ногах солдатские кальсоны, завязанные на щиколотках поверх шерстяных носков.
Восемь женщин — все вроде бы внешне разные и годами, и лицом, и повадками, но и неуловимо схожие тем общим выраженьем добросердечия, которое отличает даже самую некрасивую деревенскую старуху, — переговаривались отчего-то тихо, словно бы чуя провинность, почти шепотом, а может, настраивались душевно, отыскивая в себе то настроение, которое и рождает песню.
— Нужна глубокая память, чтобы петь на беседке — беседошные, на вечерке — вечерошны, на лугу — луговые, в хороводе — плясальные.
Это Параскева Осиповна сказала слегка заносчиво и оглядела товарок.
— А татушка у меня умирал и говорит: «Последние часы доживаю, а куль песен еще не развязан». Я и сама-то как одна жила, с вечера запою и напеться не могу. — Домнушка всхлипнула, закомкала передник. — Бывало, и ночь пропою. Народ-то идет мимо избы, говорят, что эко Домнушка — не с ума ли сошла.
— Глупа, как есть глупа, — сурово обрезала Параня и засмеялась.
— Я-то глупа, — покорно согласилась Домна, — но и ты порато не кричи. Как ворона: кар-кар…
— Эй, бабоньки, — поднялся за столом Пиотр Донович, остерегаясь грозы. Но солнце ломилось в избу, маслено растеклось по полу, ублажало бабью исковерканную плоть, и смута, едва народившись в отпотевшей редковолосой голове, уже сникала.
— Куда деться мне, что делать, коли так вырывается, — смиренно подтвердила Параня, и все облегченно вздохнули. — Нам бы по стопарику грянуть, а то голос секется. Я ныне тонким не могу, редко пою, вот голос и гарчит.
— Ой, мы выпьем-то когда, дак голосишко у нас и по-бе-жит, — призакрыв глаза куриными веками, сладко протянула Домна. — Ой, и побежит тогда, польется. Ее вывести надо, ей после надо разбежку дать, христовенькой разлюбезной песенке нашей, да чтоб она взыграла, да после сама по себе и вилась, скакала-поскакивала. Иль не так, деушки?
— Все так, — согласились женщины, и лишь Параскева не преминула слово свое веское пропехнуть, чтобы о ней постоянно помнили, на нее равнялись:
— Песне натура нужна, по народу и песня. Вы в какую деревню ни поезжайте, а вам ту же песню, да по-другому выведут. Вот мезенки, те более круто заворачивают, нам с ними не по дороге; если по-ихнему боронить, то леший знает, куда выведет ту борозду.
— Может, попробуем, споем? — искательно попросил Баринов, уже уверенный сердцем, что из этого песенного кладезя он вдоволь изопьет. Бабы согласно запотряхивались, заощипывались, словно бы на пляс пригласили выйти, и с лиц, только что кирпично-бурых, потресканных морщинами, переменчивых, вмиг слиняло оживление, румянец вроде бы притух, просочился сквозь пергамент кожи, каменно напряглись скулы, щеки подсохли, и в изгибы выцелованных губ и в подкрылья носа легла та особого свойства грусть, с которой начинается и настраивается любая русская песня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу