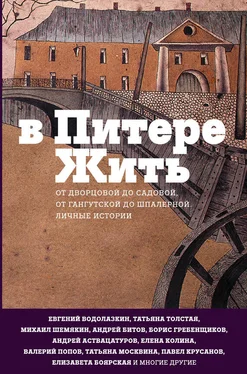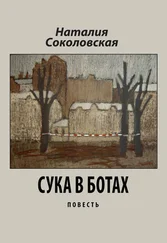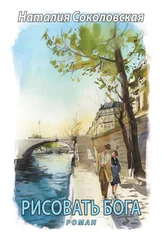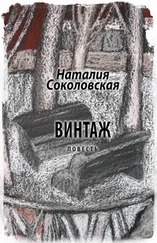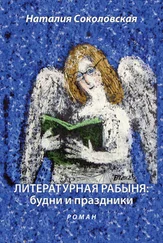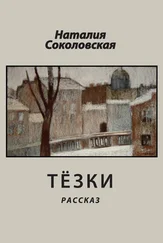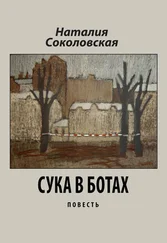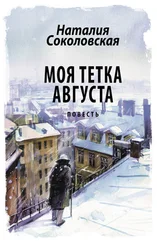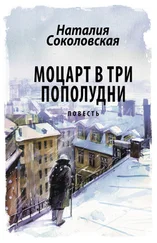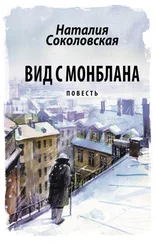Не описывай заранее
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови…
И ведь не в том беда, что все возьмет и сбудется, – а в том, что все может обернуться как раз фарсом несбывшегося или сбывшегося с точностью до наоборот. Так что не стану утверждать, будто я пришла на Васильевский остров с известной целью – но так случилось, что жизнь нарисовала круг: я родилась на Васильевском острове и вернулась в 2005 году туда же. Туда же, да не туда: детство прошло на Васильевском «захолустном», непарадном, пред-кладбищенском, дико очаровательном – а поселилась я нынче на Университетской набережной, рядышком с Академией художеств. Чуть дальше по набережной, уже Лейтенанта Шмидта (мосту Лейтенанта Шмидта вернули историческое название «Благовещенский», но набережная сохранила имя этого странного парня, ужасно возлюбленного когда-то русской интеллигенцией), расположен причал, где швартуются экскурсионные корабли. Причаливая и отчаливая, корабли издают дивный, густой и печальный звук. Я живу в центре Петербурга, смотрю на Неву и думаю, что – без спора, я счастливица. Правда, решительно ослабела мотивация деятельности – вот к чему мне стремиться, если я в окне вижу Исаакиевский собор и могу каждую ночь с апреля по ноябрь наблюдать аттракцион, за которым люди едут со всего света, – развод невских мостов?
Говорят, всё надоедает. Нет, Нева надоесть не может – ох и странная это река, да и река ли она? Под Благовещенским мостом она вообще непонятно куда течет, не разобрать… Однажды зимой, когда был салют в день снятия блокады, я стояла в лютый мороз на этом мосту, ожидая первый залп, и вдруг увидела в небе бесшумную быструю стаю из сотен белых птиц. Стая пронеслась над Невой в сторону Петропавловской крепости, откуда в городе и раздаются все салюты. Никакие это были не чайки, чайки такими огромными и бесшумными стаями не летают. Души погибших блокадников? Не знаю. Стояла на Благовещенском мосту в счастливом ужасе… Желая чудес, мы никак не приспособлены для встречи с ними.
Но вернемся к реальности. Васильевский остров – район, наименее пострадавший от «нашествия варваров». Дома там крепкие, плотно стоящие друг к другу, и вштырить что-либо чрезвычайно трудно. Новых строений – единицы. Старая застройка идет километрами. Некоторые места не изменились за полвека вообще никак. Скажем, мой родной дом № 70 по Семнадцатой линии – рядовой образец стиля «модерн», серо-зеленый, угловой с набережной Смоленки. Квартира 29, где мы жили с родителями и бабушкой, несколько лет назад была выставлена на продажу, и я под видом покупателя съездила на ностальгическое свидание. Конечно, все стало маленьким, это обычный эффект, но примечательно другое – мало что изменилось! Разве что на берегу Смоленки водрузили бизнес-центр (это в двух шагах от кладбища, ну правильно, буржуи, мементо мори!) да погиб трамвай, сняты рельсы, те самые, по которым еще недавно разъезжал герой фильма Балабанова «Брат». Я враг гибели милого животного – трамвая, видела своими глазами: трамвай бодро колесит по Цюриху, по Праге, никому не мешает. Трамвай в моем детстве-то был единственный громкий звук с улицы, звук из добрых, привычных, никогда не мешающих. Трамвай бросал дрожащие отсветы на стены, немножко скрипел, тормозя, а потом нежно звонил звоночек, предвещая закрытие дверей и отъезд.
Звук трамвая – и опилки – почему-то вспоминаются первыми. Древесными опилками посыпали каменные полы магазинов, так боролись со слякотью. Грязь с ленинградских ботинок стекала в слой опилок, впитывалась, и обувь становилась сухой, а опилки время от времени обновлялись. Конечно, маленький человек всегда внимательно смотрит вниз, но у меня тут была особая причина: монетки, падая в опилки, иногда «пропадали», оказывались незаметными, не ударялись об пол, настораживая покупателя. Так что я, к примеру в булочной, немножко шевелила опилки ногой и могла обнаружить потерянную кем-то монетку, даже в пять копеек. А пять копеек в каком-нибудь 1963 году это детское состояние…
Кто ворожит Васильевскому острову, отчего он почти в сохранности? Возможно, это «общество мертвых художников». На Васильевском художники селились компактно возле Академии. Сам Иван Иванович Шишкин проживал не в сосновом лесу, но в Пятой линии В. О. Рядом с Академией квартиры, ясно, были подороже, но дальше, «в линиях», цена снижалась. В повести Гоголя «Портрет» читаем про художника Чарткова – «усталый и весь в поту дотащился он к себе, в Пятнадцатую линию на Васильевский остров».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу