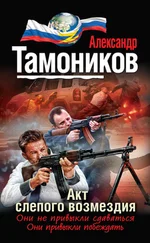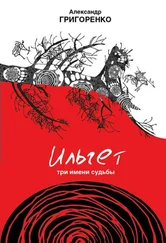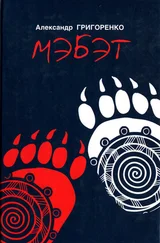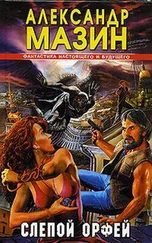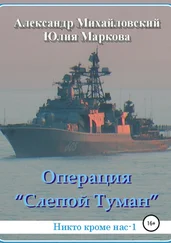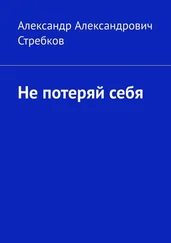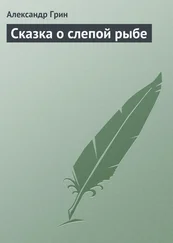Четыре сюжета, представленных в этой подборке, были написаны в разные годы. Не скажу, что они лучшие, но, читая их, я был в целом доволен собой. И вдруг самодовольство мое исчезло. Уже не помню точно, когда это случилось, однако знаю – почему: написанное оставалось неизменным, но изменилось многое вокруг, и, самое главное, изменился я. Разумеется, в этом нет никакой трагедии для окружающей действительности, меня и моих опусов. Литераторы переделывают свои произведения к очередному изданию, осовременивают их – это обычная вещь…
Но я решил, что лучше ничего не менять, а просто дописать недосказанное и свое отношение к сказанному. Метод не самый изящный, зато простой и наглядный. Послесловия – не самостоятельные тексты, они – отражение автора, который, слава Богу, прожил после первых публикаций этих эссе сколько-то лет, и надеется пожить еще…
– Тебе нужно выбрать угол зрения, – сказал он. – Предлагаю два варианта. Или ты, как Гомер – сверху все созерцаешь. Или, как Жуковский – снизу вверх: «О-о-о»! И так далее.
Гомер мне нравился больше, это льстило самолюбию. Но жизнь так сложилась, что я не Гомер. Жуковский тоже не годился: при всей своей оригинальности, Старик-Букашкин не похож на гуру и столп. К тому же, как я понял впоследствии, такой взгляд вряд ли понравился бы ему самому. Но я нашел «свой угол» – журнал наружных наблюдений – нечто, напоминающее то, что составляли агенты всевозможных охранок. Только у этого журнала и «агентского» есть лишь одна общая черта – отсутствие претензий на глубину. Что увидел – записал. Ну и то, что немножко думал при этом.
Старик-Букашкин живет в Екатеринбурге. В своем городе он достаточно хорошо известен – в том числе и широкой публике. Музей истории города проводил опрос, и оказалось, что его считают одним из символов столицы Урала – наряду с Ковпаком, Ройзманом, Чернецким. Возможно, и за пределами региона – благодаря стараниям телевидения – о нем слышали, как о милом, чудаковатом старичке, расписывающем помойки, гаражи, заборы и прочие неприглядные места города забавными стишками и рисунками «под детство». Например: «И кошка многому научит: не пьет, не курит и мяучит».
Но эти заметки пишутся для тех, кто не живет в Екатеринбурге и не знаком ни со Стариком-Букашкиным, ни с его творчеством.
И это – самое скверное обстоятельство для автора. Почти трагическое. Ведь читателю, не знающему ни того, ни другого, как объяснить, о чем речь? Вот если бы Суриков, Суворов, Альпы или, на худой конец, сокровища Лувра… Так ведь Лувр в каждой хрестоматии «по изо», а для постижения Старика-Букашкина придется специально ехать в этот крупный промышленный и культурный центр, на что вряд ли кто решится – разве что с оказией или за казенный счет.
Нет, объяснить-то, конечно, можно – даже доходчиво и забавно. Мол, есть такой чудаковатый дядечка с длинной бородой, который все помойки (см. выше)… Но именно эти намеки на чудаковатость вызвали во мне внутренний протест. Все дело в том, что у меня было впечатление, которому придется доверять как единственному доказательству. Серая полиграфия здесь бессильна. И даже цветная – ибо и она не передаст ощущения перехода из пространства в пространство.
На первый взгляд здесь нет никакой мистики: этот переход знаком почти каждому из нас. У всякого города есть парадная сторона, та, которой он показывается «на люди». Ты идешь по какой-нибудь центральной улице, где все вымощено, освещено, где все изощряется в призывах потратить деньги – одеться, сфотографироваться, выпить-закусить и вообще почувствовать себя хозяином жизни.
Но стоит свернуть с магистрального пути куда-нибудь за угол, и увидишь, что другая сторона жизни совсем рядом, что там уже ничто не призывает почувствовать себя ее хозяином, а незамысловато посылает в строго противоположном направлении. И сходу я решил, что Старик-Букашкин, пока еще не знакомый мне лично, решил эту беду слегка поправить. По крайней мере, именно так я думал, когда перед встречей отправился по неприглядным закоулкам Екатеринбурга, чтобы зафиксировать на фотопленку эти забавные стишки и картинки – причем отправился в такой день, когда природа поманила теплом, поматросила и бросила в серый, малоснежный холод. И вот я нашел ту помойку…
Очень хорошо, что я почти ничего не смыслю в искусстве, особенно в живописи. Если бы понимал, то, наверное, принялся бы за дело глупое и бессмысленное – сравнивать и искать, к какому направлению художеств причесть эти росписи. Но поскольку имею мозг свободный от искусствоведения, то заявляю с чистым сердцем и полной ответственностью. Это была лучшая галерея в моей жизни. Повторяю: не помойка – галерея. Ибо от первой же картинки – «Собачку, кошку и даже льва / мне очень жалко, заболева…» – меня охватил тот восторг, которого я не помню уже давно. Это восторг особого свойства… И с каждым гаражом, стеной, мусорным баком восторг охватывал все сильнее. Наверно, он каким-то непостижимым образом передался даже «мыльнице» – она сама начала снимать бурными очередями, когда в видоискатель попалась трансформаторная будка с картиной «Так без устали котик – хороший и тихий/ сидит и сидит в ожиданьи котихи».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
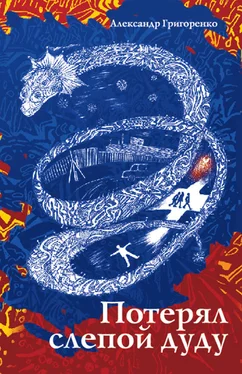
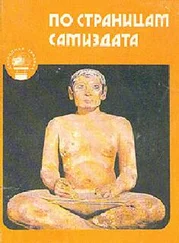

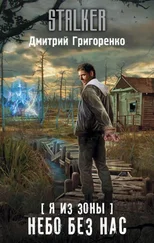
![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/books/82026/lorens-sanders-slepoj-s-pistoletom-kassety-anders-thumb.webp)