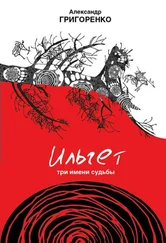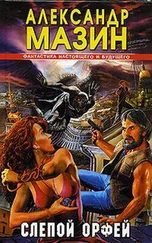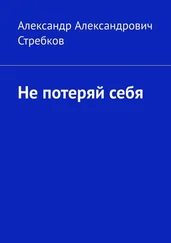Осень – ясность. Да, ясность, хотя это слово трудно применить к поре, когда преобладает серое небо, но это та ясность, которая сама – свет.
Давно вычитал в газете: в реанимации одной больницы умер пациент, осциллограф уже несколько минут показывал ровную полосу, врачи собирались снимать датчики с тела, но линия подскочила, потом еще раз, еще… Больной ожил, сел на лежанке и сказал, что очень голоден. Ему тут же принесли из столовой, он съел полный обед, лег, вздохнул блаженно – и умер. Теперь – насовсем.
Часто говорят, что в последних остатках жизни человеку вдруг становится легче, иногда настолько, что он, наверное, думает – все отменяется.
Моя бабушка с утра ревностно выпытывала у домашних, что за город такой – Каир, а когда оставалось ей не более получаса, бодро спросила, скоро ли будем обедать, хотя в годы болезни ее заставляли есть.
Мой друг Юра Щуко умер прямо на сцене, во время воскресного спектакля, в краткой паузе перед репликой: «Я спрашиваю, кто вы такая?» Все вспоминали, что играл он в тот день с особой, возрастающей энергией. Кстати, было это тоже осенью…
Смерть вполне объяснима с точки зрения естественных наук и богословия, а вот этот миг – зачем он?
Я не знаю (и слава Богу), что он открывает людям, и уж тем более не утверждаю, что приведенное выше – общее правило.
Но почему-то верю, что вот это прояснение в угасании предусмотрено в самой сути жизни, а его природный образ – краткий, ясный осенний свет, в котором все «иное».
Верю потому, что смерть вообще нелепость, но совсем уж нелепо умирать, ничего не поняв, не увидев по-настоящему.
В осени есть то, чего не знает весна и что знает, но не в состоянии прожить и понять лето, – та точка, в которой сходятся две параллельные прямые – радость жизни и память смертная.
Мне кажется, это и есть то, что искали все и всегда, потому что без этой «точки» невозможно подлинное счастье.
Поиск мучительно труден. Оттого есть самый простой способ, к которому чаще всего и прибегают, – нужно игнорировать что-то одно: радость или память смертную. Но если оставишь только «память…» – будут вокруг сплошь черные одежды, и сколько бы меня ни уверяли, что это такая форма радости, причем истинной, не омрачимой ничем, я не могу в это поверить.
Оставишь одну радость – опустишься до свиньи и умрешь как свинья.
«Радость жизни рассеивает внимание, рассредоточивает, останавливает всякое стремление ввысь. Но жить без радости… Значит, выхода нет. Разве что черпать жизнь из великой любви, не опасаясь наказания рассеянием» (Альбер Камю. Записные книжки).
Где бы только найти эту «великую любовь»…
Но, когда сходятся прямые, таинственно соединяются радость жизни и память смертная, все становится другим: нега – нежностью, страсть – жалостью, и в радости уже нет постыдного, и смерть не такая страшная, и нелюбимое дитя влечет сильнее обласканного, и чахоточная дева видится прекраснее знойной женщины, и все «без ропота, без гнева»… Сама жизнь теряет в этой точке свою непредсказуемость, страшащую изменчивость, все замирает, как прозрачным осенним днем, когда по воздуху плывут паутинки и природа обретает праздничный храмовый цвет – золото на голубом.
Картина «Видение отроку Варфоломею» написана в осеннем «интерьере» (как и вообще многие картины, где изображены святые), может быть, не только потому, что осень соответствует традиционному представлению о русской «скудной природе». Святость сама по себе – осень, осенняя ясность, и стремление к святости есть стремление к этой ясности, к тому, чтобы она была не мгновением, не предсмертным прояснением, а пришла и не уходила. Чтобы стала вечной осенью.
Эта осень приходит не только к святым, она итог умной жизни и дается независимо от возраста и сил. Пушкин, когда любовался «чахоточной девой», был силен, а жить ему оставалось два с небольшим года и уйти не от болезни и старости. И здесь виден высший смысл расхожей фразы «дни его были сочтены».
Кто счел – дал ясность.
Наверное, это и есть та самая «пушкинская осень», которую я не понимал в школе. Тем не менее и сейчас я не могу похвалиться открытием, потому что понимать не значит пережить, – моя осень еще не наступила.
Иногда тянет перечитать свои старые вещи. Приятно, если по прошествии времени ничего не хочешь в них изменить, или что-то добавить к ним, поскольку пишущий человек, я думаю, вообще стремится – подсознательно или явно – к созданию вневременного текста.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

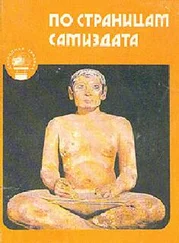


![Лоренс Сандерс - Слепой с пистолетом [Кассеты Андерсона. Слепой с пистолетом. Друзья Эдди Койла]](/books/82026/lorens-sanders-slepoj-s-pistoletom-kassety-anders-thumb.webp)