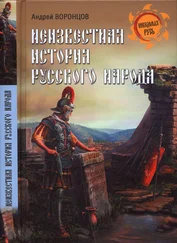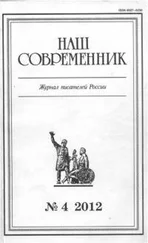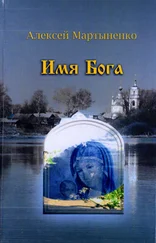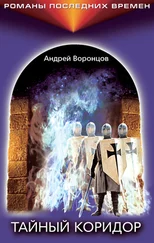— Очень рад, — пробормотал я.
— Лично я, — Кадмонов повертел шеей, словно ему мешал воротник, — не отношусь к числу критиков каббалы. Но есть критика и критика. Например, многие православные авторы критикуют каббалу бегло, как часть иудаизма. То есть сути учения они не понимают, да и не хотят. Вы же пошли дальше, констатировали некоторую близость отдельных положений каббалы к скептическому гностицизму, а то к научному материализму. Вы остро подметили отступление от принципа монотеизма в фактическом раздроблении сущности Саваофа на ряд эманаций, каждая из которых сама по себе божественна. Занятен, — его пухлые губы сложились в улыбку, — ваш пример с Вием. Но в целом вы недооценили значение и смысл того, что каббалисты называют Бесконечной Пустотой. Современные научные открытия подтвердили, что это не просто философский образ. Вы ведь читали о «черных дырах» в космосе? Ну вот. «Черная дыра» есть идеальное физическое выражение стремления Нуля к нулю во Вселенной. Что же касается филологии и философии, то напомню вам, в частности, о концепции языковых игр Витгенштейна. Он считал, что значение слова варьируется в зависимости от того, в каком контексте оно употребляется. «Значение — это употребление, — говорил он. — Границы моего мира означают границы моего языка». — Слова выкатывались изо рта Кадмонова неторопливо и без помех, как у лектора, давным-давно запомнившего свои конспекты. — Философы, используя опыты средневековых мыслителей, вновь стали изучать не само бытие, а то, как оно является сознанию через естественный язык и другие знаковые системы. Поэтому возникла и структурная лингвистика де Соссюра, и семиотика Пирса и Морриса. То же самое можно сказать и о «ключе Соломона» философа Элифаса Леви, который представлял собой иероглифический и цифровой алфавит, выражающий буквами и числами ряд всеобщих и абсолютных идей. Учение признанных во всем мире философов-позитивистов опирается на каббалу. А вы, увлекшись критикой, ограничили, в сущности, каббалу рамками средневекового богоборческого антихристианского учения. Вот эта сознательная узость вашей работы и мешает мне с ходу рекомендовать ее для издания у нас, скажем, монографией. Современная философия слишком связана с каббалой, чтобы взять ее и вот так перечеркнуть. А возьмите художественную литературу! «Алеф» Борхеса, «Игра в классики» и «Книга Мануэля» Кортасара, «Имя Розы» Умберто Эко… Христианская культура облегчила познание мира, изобразив его двойственным, поделенным на свет и тень. Но двойственность, по каббале, это всего лишь отношения внутри Троицы — как отношения катета и гипотенузы в треугольнике. В «Сефер Иетцира» сказано: «Три друга, три врага, три живые оживляют, три — убивают, а Бог — Царь верный — господствует над всеми на пороге Своей святости». Кто это — «три друга, три врага, три живые», что «оживляют»? Кто эти трое, что «убивают»? Ясно, что это не люди, а свойства, но именно на них покоится «порог святости» Бога. Вы взялись за сложнейшую тему, имея лишь простейшие представления о сверхчувственном мире. Не скрою, вы далеко продвинулись, но ваше продвижение ограничено поставленным вами же пределом. Вам нужна помощь людей, посвященных в тайны мироздания, ибо есть то, что вы не прочтете ни в каких книгах.
— А вы, конечно, один из посвященных, — улыбнулся я.
— Если угодно. И вы можете стать посвященным. Разумеется, не сразу, надо пройти степени посвящения. Но это внутренняя, духовная работа. Ею наша помощь друзьям, конечно, не ограничивается. Скольким мы помогли выйти из безвестности, напечатать свои книги, появиться на экранах телевизоров!
— Степени? — оживился я. — Так вы что — масоны? Вот это да! Нет, знаете, я не хочу быть масоном. Я наигрался в тайные общества в детстве.
Кадмонов искоса глянул на меня:
— Вы полагаете, это игра? Мне казалось, вы лишены обывательских предрассудков. Подумайте, подумайте… У вас правильные воззрения относительно свободы, но вы ее видите не там, где она действительно существует. Что такое ваша «первоначальная свобода»? Ни о какой свободе до грехопадения Адама и Евы в Книге Бытия не идет и речи. Напротив, человеку было сказано: «от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Какая же это свобода?
— Да та самая, первоначальная, — ответил я. — Ведь можно было вообще не сажать такого дерева. Мы говорим детям об опасностях окружающего мира не потому, что хотим ограничить их свободу, а потому, что боимся за них. Но им известно от нас, что «нельзя» — существует. Человеку было дано понятие о существовании добра и зла, но одновременно указано, что лучше их не познавать, а быть как дети. Я так понимаю эту притчу.
Читать дальше