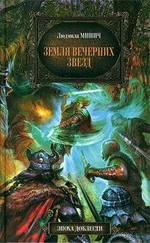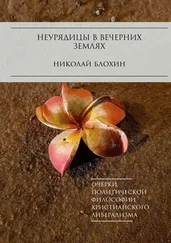— Сколько времени вы пробудете здесь?
— Не знаю. Не очень долго.
Когда через полчаса мы возвращаемся к пруду, она останавливается и оглядывается вокруг.
— Судя по тому, что вы мне рассказали, здесь все дело в эстетике, верно? Я имею в виду сад.
— Конечно же, нет. Сад должен запасть вам в душу. Он должен изменить ее, опечалить ее, ободрить ее. Он должен заставить вас принимать недолговечность всего в жизни. Миг, когда последний лист должен вот-вот упасть, оставшийся лепесток вот-вот облететь — этот миг вбирает в себя все прекрасное и горестное, что есть в жизни. Моно-но аварэ , как называют это японцы.
— Какой-то нездоровый взгляд на жизнь.
— Мы все умираем, — говорю. — День за днем, секунда за секундой. Каждый вздох, который мы делаем, истощает те ограниченные запасы, с какими все мы рождаемся.
Я вполне понимаю: ее не интересует такая тема, как смерть, она, как и великое множество молодых, убеждена, что к ней она никакого отношения не имеет.
— Я смогу приступить завтра, — говорит она. — Я должна идти: у меня есть еще один сад, о котором надо заботиться.
— Уверена, дорогу к выходу вы легко найдете. И не забудьте вашу собаку.
Вималя ушла, а я стою у кромки пруда и долго провожаю ее взглядом. В голове я вновь слышу голос Аритомо: «Делай все правильно, и сад сам все запомнит». Все эти годы я порой задумывалась: отчего он никогда не хотел передать свои мысли бумаге, отчего так боялся, что его идеи украдут и воспроизведут. Проведя долгое время вдали от Югири, я сейчас начинаю понимать, по-настоящему понимать, что у него было на уме. Уроки воплощены в каждом дереве, в каждом кусте, в каждом виде, которым я любуюсь. Он был прав: я вверила все, чему он меня учил, своей памяти. Вот только сосуд пошел трещинами. Если я не запишу всего этого, кто окажется способен расшифровать его указания, когда я уже буду не способна довести их до чьего-либо понимания, когда сама я не смогу больше понимать, что говорю?
* * *
Тацуджи приходит работать с укиё-э по утрам в девять часов, оставаясь еще на час-другой после обеда. Я велю А Чону попозже подать ему чай и что-нибудь перекусить. Время от времени замечаю, как историк бродит на участках сада около дома: у него хватает соображения не забираться поглубже без моего позволения. Взгляд его всегда сосредоточен, даже когда он просто сидит на лавочке. Из окна кабинета я часто вижу его читающим какую-то тоненькую старую книжицу в твердой обложке: ноги вытянуты и скрещены у коленей, он сидит до того неподвижно, что, кажется, уже стал еще одним камнем в саду.
Утро я провожу, записывая поручения для Вимали, делая это как можно более подробно. Весть о моем возвращении в Югири уже разлетелась, я стала получать записки и письма от людей, о которых и не слыхивала, с просьбами разрешить им посетить сад. Приглашения рассказать об Аритомо и его саде пришли из Управления Камеронского нагорья по туризму, клуба «Ротери», Ассоциации высокогорных путешественников, клуба «Экспаты» [170] Экспаты — люди, добровольно или вынужденно покинувшие родину.
, Садоводческого общества Танах-Раты. Я все утро провожу, перебирая их и… выбрасывая.
Как раз тогда оно и происходит. Как и прежде — никакого предуведомления.
Разворачиваю извлеченное из конверта письмо и постепенно соображаю, что бумага у меня в руке заполнена неразборчивыми каракулями. Мир вокруг затихает настолько, что я, кажется, способна расслышать, как течет во мне кровь. Немного погодя (наверное, не больше, чем через минуту-другую) беру другой листок бумаги. Руки дрожат. Написанное на нем также не поддается прочтению. Поднимаю взгляд на кучу книг на столе и обнаруживаю, что названия на их корешках тоже невозможно расшифровать. Притягиваю к себе блокнот и пишу что-то на его странице, но слишком уж дрожит рука. Делаю несколько вдохов и выдохов, пока не чувствую, что готова, и затем медленно вывожу печатными буквами свое имя. Хотя усвоенный рукой навык убеждает меня, что пишу я имя правильно, на бумаге оно выглядит строчкой неведомых иероглифов.
Панический страх гонит меня из кабинета. В коридорах запутываюсь: как будто попала в лабиринт. Тацуджи окликает меня, когда я проношусь мимо него. Заслышав поодаль какой-то слабый стук, иду на него и попадаю в заднюю часть дома. А Чон рубит овощи на кухне, его широкий тесак отбивает ритм на толстой разделочной доске. Удивленный моим появлением, он поднимает голову. Откладывает тесак, отирает руки о полотенце и приносит мне стакан воды. Тацуджи заходит следом за мной на кухню и удивленно смотрит на меня. Беру у А Чона стакан, с облегчением замечая, что рука дрожит уже намного меньше. Медленно пью воду, а когда допиваю, то понимаю, что все еще держу что-то в руке. Распрямляю пальцы — в ладони смятый комок бумаги. Расправив его, разбираю свое имя: буквы корявые и неясные, но узнаваемые.
Читать дальше