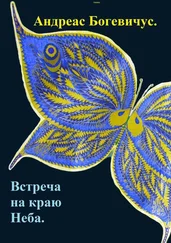«Но выкарабкался, — подумал Дуров, глядя на темневшую воду, — и никто не может ткнуть пальцем, да и на заводе не последний человек». Он усмехнулся, порадовавшись, что никто не знает о его поездке, а то сказали бы — тронулся наш старик: его давно звали «наш старик», хотя стариком он себя не считал. И еще подумал, что приехал сюда не только потому, что хотелось послушать шелест травы, увидеть этот дом, знакомое и памятное место, а потому что нечем стало жить в благополучии и внешней порядочности теперешней жизни: дочери выросли и вот-вот уйдут из семьи; жена давно превратилась в наседку, беспокоилась о дочерях, о нем самом — для нее самым главным было, чтобы никто не болел. Ничего другого она понять не могла, но Дуров жалел ее, потому что, если подумать, она ни в чем не виновата. Когда они только поженились, у них происходили ссоры, долгие и бестолковые разговоры: Дурову не нравился ни ее голос, ни привычки, ни то, как жена звала его уменьшительно Коленькой. Он все вспоминал Варю, искал сходства с нею, а сходства, конечно, не было, и это злило. Но позже, словно поняв что-то важное, Дуров по-своему полюбил жену, сам себе не признаваясь, что часть этой любви пришла издалека…
О дочерях Дуров всегда думал с сожалением, он не то что не любил их — нет, но ясно понимал, что в них чего-то нет. Ему казалось, они не взяли даже доброты своей матери, и он успокаивал себя тем, что с ними, когда они полюбят, произойдет какое-то чудесное превращение, закономерное и неотвратимое. Но иногда, слушая их разговоры, он пугался и думал, что и любовь их будет такова, что не распространится на других людей. Любовь эта обрушится на их избранников, отлюбив которых и отгорев сами, бросят они их с легкостью и станут образованными, скандальными женщинами, матерями, скучными и ограниченными до невозможности. Чаще всего Дуров гнал от себя подобные мысли, надеясь, что время само разберется, тем более что помочь дочерям он ничем не мог.
Когда небо стало темнеть, когда в воздухе посвежело, а от воды потянуло сыростью, Дуров понял, что можно было и не приезжать, сидел и думал о том, что в его жизни, да и, возможно, в жизни других людей, все так глупо и скомкано, что если вглядеться получше, то и смысла никакого нет; и неужели это справедливо: из четырех десятков лет разве что и позавидуешь тем двум неделям? А спроси себя, зачем жил остальное время, — не скажешь.
Что такое любовь?.. Теперь Дуров это знал, и поэтому ему было грустно. «Приходит такое время, — размышлял он, — когда начинаешь понимать, но понимание не помогает жить — мешает. Но все же…» Дуров не знал, как же быть без понимания. Если бы кто-нибудь спросил его, хотел он по-другому, он бы только рассмеялся или сказал, что жизнь да и все прекрасное, что в ней происходит, дается только однажды. Да и как можно желать того, чего не знаешь?.. И все же долгие годы он помнил, что все могло быть иначе.
Дуров тяжело вздохнул, поднялся и устало, будто наработавшись, пошел к дому. И хотел сразу же уйти, потому что жить в доме, тем более стесняя, было совершенно бессмысленно. Не хотелось ни говорить, ни слушать. Он бы и ушел, даже думал с какой-то необъяснимой радостью, как будет шагать по ночной степи, но хозяйка сказала, что ходить по степи ночью не годится, и если с ним, не дай бог, что произойдет, то она не простит себе этого всю жизнь.
— Оставайтесь, — проговорила она и добавила совсем тихо: — Хоть неволить, конечно, не могу…
И грустно взглянула на стол, где лежал нарезанный щедрыми ломтями хлеб, стоял небольшой обливной кувшин молока и белели две тарелки, а под ними — льняные, свежие салфетки.
Павел Спиридонович не любил приезжать в поселок, хотя он родился в нем и вырос. Родителей проведывал крайне редко и, появившись, старался подолгу не задерживаться: скучным виделся ему и поселок, и жизнь в нем, и нередко он с удивлением спрашивал себя, как это раньше не замечал всего убожества тихой жизни, вспоминал, что в юности было интересно и даже весело. Друзей, с которыми он гонял когда-то по садам и пустырям, а после учился в школе, почти не осталось, — многие разъехались, а кто и задержался, то жил, казалось теперь Павлу Спиридоновичу, неизвестно на каких улочках, и поэтому, приезжая, он ни к кому не ходил и никого не видел. К тому же приходилось выслушивать жалобы матери на то, что редко привозит он жену и детей. Это раздражало. Дети были раза два, а жена гостевала только однажды и после упрямо отказывалась.
Читать дальше
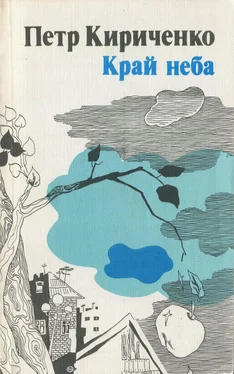
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




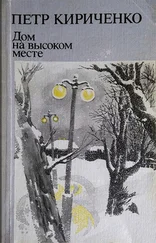
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)