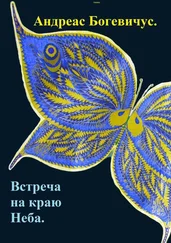Дойдя до края обрыва, Дуров постоял, поглядел на ступени, вырытые в желто-серой глине, на воду реки. Солнце давно перевалило за полдень и заметно склонилось к земле, но все же было довольно жарко. Даже от близкой воды не доносилась прохлада. Тихо было, хорошо и до того привольно, что Дурову захотелось кинуться в речку с обрыва, пролететь эти несколько метров, а не пройти их по ступеням… «Не успел уехать от привычной жизни, как сразу же захотелось прыгать и летать», — посмеялся он сам над собой и серьезно уже подумал, что, может быть, привычное и впрямь не дает человеку оторваться от земли. Стоял и слушал тонкое пчелиное жужжание, звеневшее над степью одинокой струной, а после, сам не зная зачем, оглянулся на дом. Из окна на него глядела хозяйка, и Дуров шагнул вниз по ступеням.
…Двадцать лет назад, совершенно случайно, Дуров жил в этом доме с первой своей женой Варенькой; расписавшись, они приехали сюда на три дня, а пробыли две недели. Тогда был август, лето выдалось знойным, и трава скоро сгорела. И вечерами, когда они бродили вдоль обрыва или сидели на крыльце, слышно было, как от легкого, прилетавшего из степей ветра шелестит трава. Шелест ее казался Варе таинственным, неразгаданным, и она постоянно говорила:
«Послушай!.. Нет, ты послушай! О чем она шелестит?!»
Дуров не мог сказать, и они смеялись…
По утрам они бегали к речке умываться, и не объяснить было, отчего столько радости доставляли им эти глиняные ступени, росистая и холодная трава, чистая, студеная по утрам вода. Варя, будто предчувствуя скорую разлуку, не отпускала Дурова от себя ни на шаг, и когда в один из дней они с хозяином уплыли на ту сторону нарубить жердей, она ждала с нетерпением и встретила у реки.
«Думала, не дождусь! — сказала она. — Мне даже страшно стало…»
И смотрела на Дурова с тревогой и нежностью, словно боялась, что он исчезнет. Когда они разгрузили лодку, она взялась помогать; а Константин Ильич хмурился, отнимал у нее жердины и говорил в сердцах: «Варенька! Ну, Варенька!» И Дуров, глядя на эту сцену, смеялся.
Оттого, что она любила и не испытала еще никаких тревог, мир ей казался удивительным; в то лето она стала совсем другой, она любила не только Дурова, но и всех людей, и поскольку они попали в этот дом, где жили только хозяин да хозяйка, то она перенесла всю свою любовь на них.
Она вышла замуж, но что-то нежное, по-детски чистое оставалось в ней, такое, чего Дуров ни у кого не замечал; и когда она говорила, то невозможно было не поверить, потому что в голосе ее слышалось столько чувства, жизни, что Дуров, слушая ее, сомневался, бывало, его ли это жена. И любил ее в такие минуты без памяти.
«Константин Ильич!.. Евдокия Захаровна!» — только и слышалось в те дни. И Констанин Ильич, проживший свою жизнь в отдалении и глуши и привыкший к тишине, улыбался ей и называл «Варенька-Варвара». Однажды, когда Варя стала в шутку фантазировать о том, как они с Дуровым через несколько лет нагрянут в гости, Константин Ильич, словно бы угадав, что этого никогда не будет, даже погрустил.
«Вы станете старенькими — забудете нас, — говорила Варя, — а мы неожиданно приедем и развеселим…»
«Доченька ты наша, — отвечала Евдокия Захаровна, — как же мы тебя забудем».
Константин Ильич подтверждал слова жены, кивая головой.
А ведь он был суровым мужчиной и на лице его давно не проступали никакие страсти… «Ах, Варенька-Варвара!» — говорил он ей, и этими словами передавал, как он рад, что они приехали. И когда отвозил их в Перекаты и прощался, то заплакал.
Сидя у воды, около старого кострища, где лежал обгорелый пень да закопченное, помятое ведро, Дуров вспоминал то, что было так давно, и понимал теперь, что ничего таинственного в шелесте травы не слышалось, что Варя не могла ни предугадывать, ни тревожиться. Просто дни тогда выпали им беспечные, а вечера — свежи и медлительны. Солнце падало далеко в степи, и долго еще горело небо красными, переменчивыми отсветами. Ветер приносил откуда-то издалека еле уловимый запах дыма — наверное, в то лето часто вспыхивали пожары. А главное, они были молоды и счастливы, как могут быть счастливы любящие друг друга люди.
Теперь Дуров мог точно сказать, что ничего прекраснее, чем эти две недели, в его жизни не было, потому что после смерти Вари все пошло наперекос и пришлось ему изведать то, от чего, как говорят в народе, зарекаться не надо. И сейчас все у него как у других людей, но это все Дуров должен был сначала потерять, а после найти. На это нужны были силы, желание…
Читать дальше
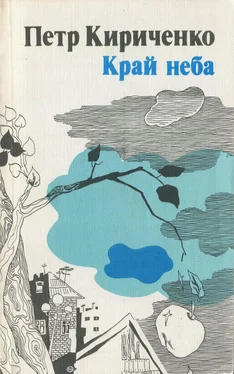
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




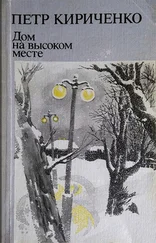
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)