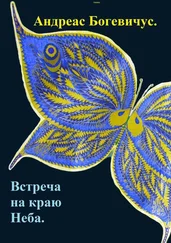Толстые стены больницы — до войны там помещался банк — отрезали Анастасию от всего этого, и она долгими часами думала в покойной тишине палаты, вспоминала. Она еще не знала, как будет жить, но понимала, что произошло что-то очень важное в ней самой, изменившее и ее и будущую жизнь. С этими мыслями пропадал и лейтенант-танкист, задержавшийся было в поселке по своей военной причине, и людские наговоры затихали в ее горячем еще сознании. «До Насти ходит, — шелестело. — Лучше найти не мог… Э-хе-хе… Известное дело: война». И решали тут же: кинет лейтенант Настю, кинет, потому что молодых вдосталь, а она — перестарок, да и нога не гнется. «Идет — хромает, что ж оно такое для женщины! Калика, — говорили, — чего тут думать».
Анастасия слышала когда-то такие пересуды; ей становилось нехорошо и тяжко жить, боялась она чего-то и на людей глядела несмело, диковато. Вроде бы стыдилась того, что лейтенант ходит к ней вечерами, хромоты своей стыдилась. А жизнь в поселке известная: шагу не ступил, а уже все знают, и новости из конца в конец — от Хомихи до Захарки как ветром переносятся. Теперь же, родив сына, Анастасия глядела на него, кормила грудью и радовалась. Исчезали страхи, и без боязни думала она о том, как, выздоровев, вернется домой. Анастасии хотелось поскорее встать на ноги, и она терпела скуку больницы, и толстые стены, и гнетущую необходимую тишину, чтобы выздороветь. Под тихий гомон соседок по палате, таких же ослабевших в родах, но говорливых женщин, Анастасия засыпала, словно проваливалась в какую-то бездонную пропасть. Ей снилось, что она взбирается на дерево, кричит весело о чем-то, снилось, как падает. Она пугалась этого падения даже во сне, вскрикивала, но, обессилев еще больше, не могла проснуться. И тогда кошмарные видения возвращали ее к тому времени, когда, не сумев вылечить, ей хотели отрезать ногу. «Не отрезайте, — просила Анастасия во сне. — Пожалейте! Как же я буду, люди добрые…» И кто-то, будто не слыша ее слез, монотонным голосом твердил: «Отрезать», а другой, тоже невидимый, перебивал его и ласково, как колокольчик, звенел: «Коса русая до пояса, девушка молодая…» От этого нежного голоса Анастасия пробуждалась, лежала, не открывая глаз, и вспоминала, как мучилась два года с ногой, вспоминала, сколько отъездила по больницам, сколько отлежала и как ее уже положили было на стол, чтобы отрезать ногу. Но, слава богу, нашелся один смелый, согласился еще раз сделать операцию. И сделал. А после снова — костыли, больницы, но нога все же осталась. Хоть и не гнется, да своя.
Думая так, вспоминая, Анастасия снова засыпала и видела брата. Он шел к ней, и Анастасия слышала, как он кричал, звал ее куда-то. Она тянулась к нему, но не могла сдвинуться с места, и больно ей становилось от этого. А брат все звал ее, и от его голоса Анастасия пробуждалась… Стонала женщина у стены, солнце все еще светило, и сквозь окно нарезалась узкая полоска света, близился вечер. Анастасия с трудом вырывалась из сна, вспоминала, что зимой на брата пришла похоронка, и тихо плакала. С гибелью брата Анастасия и совсем осиротела: мать померла в самом начале войны, а отец еще раньше — в голодные годы. Не стало брата, и Анастасия выплакала это горе и словно бы заново похоронила всех троих и долгих, каких-то незрячих ночей уже не боялась, знала теперь, что не пропадет, если не умерла при родах, когда изрезали всю, места живого не оставили, а сын никак не хотел выходить на свет, и ее резали еще и еще…
А брат все же вернулся: с пустым, заправленным под ремень рукавом гимнастерки, изменившийся, осунувшийся, но веселый. Анастасия, в чем была, выскочила из палаты, обнимала его, и плакала, и все присматривалась к нему, вроде бы не узнавала. «Ваня, — приговаривала, — Ваня…» Брат молча гладил ее по голове ладонью, а после, когда они уже сидели на лавочке под кустом сирени, он весело заговорил о том, что был дома и соседи все ему рассказали.
— Всякое говорили, — хитровато улыбаясь, сказал брат, — но картошку тебе посадили, так что не переживай. А это, — он взглянул на пустой рукав, — чтоб в жизни не скучать да чтоб не забывались деньки-денечки!
И на другой день, забрав Анастасию из больницы, повез ее в старую и родную хату, осиротевшую без нее и, казалось, подпавшую еще больше на один угол. Маленькое оконце ее косило на сруб колодца, и хата, как настрадавшееся живое существо, вроде бы хотела что-то высказать, но не могла. Анастасия побелила стены известью, насколько хватило сил, подмазала глиняный пол, чистые занавески повесила. У хаты росла груша, старая, раскидистая, диких лесовых соков; тень ее в полдень накрывала двор, давая свежесть и прохладу, где они с братом сидели, говорили. Прикрытый от солнца легкой накидкой, спал сын Анастасии. Огород весело зеленел, белели соседские хаты, тишина стояла, и солнце светило жарко. Хорошо было на сердце у Анастасии, легко, потому что сын у нее, потому что брат сидел рядом на чурбане, смеялся и поглядывал в небо, «Деньки-денечки», — приговаривал.
Читать дальше
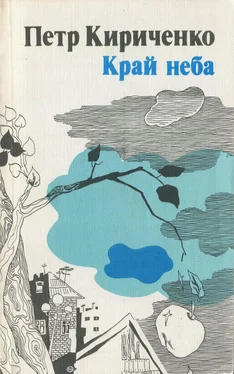
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




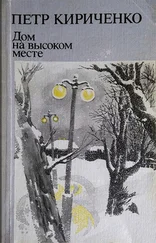
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)