Так они буйствовали всю ночь — а к полудню следующего дня пробудились в монастырской башне, — в бородах голубиный помет. И снова над садом наших мыслей встает неясный лик луны. Это всего лишь плешивец-евнух звездного гарема, пресыщенный и изнывающий от скуки, планета-скопец рядом с оплодотворяющим пламенем солнца и плодоносящим полумраком земли. Только лишь юный поэт освежает ее фосфорическую маску.
Так подымем бокалы земные во славу этого донышка чаши небесной! Да здравствует неуживчивый брудершафт с этим чужедальним странником!
Драма
Небосвод выгибается над лицом шелковой тканью. Там, куда устремляешь взор, он уходит готическим сводом ввысь, опускаясь тем ниже на периферии взгляда. Словно сводчатый сине-зелено-белый полог раскинут надо всем моим существом.
Эта беспредельность кружит голову, как взгляд в бездну. Ни шевельнуться, ни помыслить, нет уже ни сил, ни желаний. Раствориться бы в этой беспредельности и вечности, растаять в мерцании сфер. Озона глоток в легкие — и конец.
…Какой-то момент полусна. Когда глаза открываются снова, они смотрят прямо на голую скалу передо мной. И постепенно начинает высвечиваться кусочек реальности размером в ладонь.
Там, в подошве скалы, есть узкая расселина, заполненная горсткой перегноя, покрытого микроскопической растительностью. Каким-то схожим с плющом красноватым мхом. Поперек расселины протоптана муравьиная трона. А на пересечении тропы с расселиной идет лютая извечная драма.
Дождевой червячок наполовину вытянулся из земли. И целая орава черных муравьев вцепилась в него острыми челюстями. Червяк сжимается, чтобы снова уйти под землю. И уволакивает за собой шайку муравьев, так что песчинки шуршат вокруг. Но не успевает червячишко расслабиться, как его снова наполовину вытягивают из земли. Так они дергают друг друга вверх и вниз. Ни дать ни взять пильщики досок. Нетрудно вообразить, как подстегивают друг друга и злобно пыхтят мураши и какое отчаяние охватило червяка. Вверх и вниз, и все на самом солнцепеке! Кольца на теле червя сходятся и расходятся, как латы на локте рыцаря. А муравьи напрягаются, словно табун медноногих рабов, которые вгоняют сваи в бездонное болото. И это длится вечность. Идет лютая драма уничтожения на клочке вселенной размером в ладонь!..
…Солнце изливает на море шелестящее обилие своих лучей. Красными стрелами падают они на воду. Колют булавками лицо и руки. А в ушах шелест и свист.
Легкие жадно вбирают озон.
Тоска по жизни
Зарядил серый дождь. Капли застучали все чаще по стеклянному потолку, и света поубавилось. Дребезжание телеги на улице смолкает так внезапно, будто ездок провалился в тартарары вместе с улицей. Какое-то время еще слышится шум дождя, но потом ухо перестает улавливать и его.
По обе стороны открывается анфилада музейных залов. Их дверные проемы уходят в перспективу. Последние косяки еще белеются в неясной беспредельности, будто в зеркале. Где-то вдали сам по себе заскрипел в тишине паркет, но потом испугался и тоже стих.
И чем глубже тишина вокруг, тем больше жизни в этом царстве призраков. Видения старинных мастеров вновь обретают плоть и кровь. Словно шуршание шелка, шум деревьев, шелест крыльев слышатся в сумрачных комнатах… Где-то — вжик! — выхватили шпагу из ножен, журчит вода, рассекаемая носом лодки, гудит земля под копытами коней… Чей-то вздох, чей-то плач и чей-то громкий хохот… Шепот любовный, песнь колыбельная, хриплое проклятие…
Это тоска по жизни давно минувшей. Еще бы раз вернуться! Еще раз вспыхнуть огнем жизни и воспылать страстью! Еще раз испытать минутную радость посреди мертвящей неподвижности вечности!
ИДИЛЛИЯ {52} 52 Идиллия. Написана в 1913 году, опубликована в сборнике «Переменчивая радуга» в 1968 году.
Из окна открывается вид на окраинный дворик. По одну сторону череда серых, полуприсевших сараев, по другую — сгорбленных таких же сараюшек. Напротив прачечная с лиловеющим глазом-окном, дверь скособочилась. Поодаль — кубистическая панорама уступами восходящих крыш, крытых толем, горбылем. И надо всем чахлые кроны двух-трех деревьев да полоска пыльного неба, по-видимому, без всякой сколько-нибудь серьезной задней мысли.
Обыкновенно такой вид являет собой идиллическую картину. И если даже иногда в ней возникает движение, то обрывочное, эпизодическое. Вдруг откуда-то появляется пожилая женщина и начинает качать воду из колодца перед прачечной, жутко выгибая позвоночник. В другой раз на лестнице, приставленной к стрехе, покажутся чьи-то ноги, потом тело и наконец весь человек, черный, как негр, с метелкой и гирей. А то вдоль двора пролетит ошалевший от собственного величия петух, сядет на поленницу и закричит о своих подвигах. И это неистовое чавканье колодезной колонки, и неожиданное явление арапа с небес, и пылкая победная песнь петуха на миг заставляют подумать, будто вся эта неживая картина вдруг задвигается в своих сочленениях, начиная превращаться невесть во что. Чудо кажется таким близким. Но тут старуха с ведром заковыляет прочь, закоптелый негус исчезнет за воротами и, вновь обретя душевное равновесие, петух униженно лезет под сарай. И снова — тишина и неподвижность.
Читать дальше

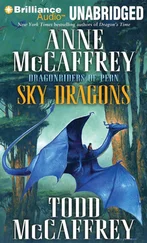




![Валерий Гуминский - Всадники Роха [Author.Today]](/books/409474/valerij-guminskij-vsadniki-roha-author-today-thumb.webp)
![Антон Перунов - Всадники. История Адама Борута [СИ]](/books/424127/anton-perunov-vsadniki-istoriya-adama-boruta-si-thumb.webp)



