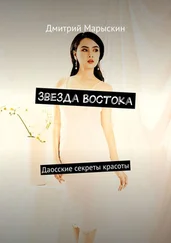Воротился в Болшево с последней электричкой и впервые спал сном младенца, охраняемый, видать, и старческим заветом, и любовью преподобного Сергия. Но едва забрезжил в щели горизонта тусклый рассвет, принялся за сборы в путь дальний и, быть может, последний. Армейский сидор, в котором во время войны умещались помимо смены белья еще и несколько «цинков» и кроссовки китайские, а при желании влезал и барашек, теперь схоронил в своем чреве молитвослов с потертой кожаной обложкой и желтыми от тысяч прикосновений страницами, уместил столь же затертый помянник с именами мертвых и живых сродников и друзей, Евангелие в зеленом дерматиновом переплете – самое первое его Евангелие, складенек с ликами Спасителя и Владимирской Богоматери, две смены белья, шерстяные носки на культи, поскольку без таковых в северных поморских лесах не намолишься, документы кое-какие: паспорт там, военный билет, «звезду» героя, орденские книжки, дипломы и все прочее, в будущей его жизни не значимое, аккуратно сложил в жестяную коробку из-под датского печенья и припрятал под половицей на втором этаже. Форму парадную и полевую так и оставил на плечиках в платяном шкафу. С легкой грустью в последний раз провел рукой по гладкой шерсти мундира, ощущая каждую ворсинку, каждый шов. И захлопнул дверцу без всякого сожаления. Остатки продуктов: крупу, макароны, миску вареной картохи, скукоженную морковь – вынес к кормушке на прокорм страждущим в зимнюю пору синичкам да сойкам. К обеду сборы были закончены. Посидел еще немного в иофановском кресле, с удивлением осматривая опустевшую, тронутую первым тленом запустения дачу. Решительно поднялся. Забросил за плечи мешок. Перекрестился троекратно. И вышел во двор. Уже у калитки заметил в щелях жестяного почтового ящика бледный отсвет письма. Поначалу даже не хотел к нему прикасаться, оставляя позади себя все суетное и мирское, однако подумал вдруг, что это не зря. Что это знак, на который он должен ответить. Вынул письмо. Прочел адрес и поспешно сунул письмо во внутренний карман куртки.
От Ярославского вокзала следовало ему теперь добираться почти сутки до города Архангелов. Оттуда вновь поездом, но уже не столичным, провинциальным поездом Северной железной дороги, не меньше шести часов до крохотной станции из силикатного кирпича. А затем автобусом до умирающей русской деревни на берегу северной реки, через которую по зимнику пешком уж совсем близко. Тут и обитель будет.
В вагоне общем, прокуренном, провонявшем немытым человеческим телом, бабьими месячными, жареной курицей, какой торгуют в привокзальных киосках татары, тепличным огурцом с солью, влажным постельным бельем, ехать по России и тепло, и уютно. Чай в стальных подстаканниках с эмблемой железных дорог СССР – крутой кипяток. Желтое колесико лимона парит в нем терпкой кислинкой, духом южным. А за окном-то все неприбранная, расхристанная Родина. Черненое серебро заборов. Мшистый шифер жилищ, утыканный ржавыми телевизионными антеннами. Иной раз и шлакоблочные бараки о двух этажах с собственными палисадами, что украшают поселки городского типа. Школы сельские, задыхающиеся без ребятни. Зато шинкарни да сельпо, до верхов заваленные спиртом «Рояль», жвачкой, сладким «Марсом» чуть не круглые сутки торгуют своей отравой. Ладно бы просто травили. А то ведь еще и дурят доверчивый наш народ, обзывая свои заведения на иноземный лад красивыми, как им кажется, в отличие от русских, именами: «Санта-Барбара», «Парадиз», «Фудстор». Недоумевает народ. Переиначивает на свой манер такое заведение «Паразитом», но все одно упрямо прется, несет капиталистическому паразиту последние копейки в обмен на дешевую водку и резину с сахаром. Само собой, и кладбища русские от жизни такой ширятся, расползаются по рощицам березовым, по лескам, а уж возле больших городов и вовсе измеряются десятками гектаров. Ложится народ в могилы безропотно. Кто по немощи и болезням, которые из-за фашистского истребления уездной и сельской медицины множатся повсеместно. Другие – в результате пьяных дебошей, какие у нас и прежде, конечно, бывали, однако нынче от праздности, безработицы, отчаяннного понимания, что нет никакого будущего ни для себя, ни для детей, оборачиваются бедствием воистину национальным. Душегубствует русский народ почем зря без всяческой жалости. Но все это только там, где теплится еще хоть какая-то жизнь. Только вот жизни этой сквозь пыльное окно вагона дальнего следования чем дальше от столицы, тем меньше. Русский лес вырублен нещадно, а тот, что остался, завален валежинами, сухостоем, короедом истреблен; поля без хозяйского досмотра одичавшие, утыканные сухими дудками борщевика; реки стоками да пестицидами вытравленные чуть не от самого устья. Это и есть Россия. Несчастная, бесхозная страна.
Читать дальше
![Дмитрий Лиханов Звезда и Крест [litres] обложка книги](/books/437533/dmitrij-lihanov-zvezda-i-krest-litres-cover.webp)



![Гарри Гаррисон - Молот и Крест [litres]](/books/386430/garri-garrison-molot-i-krest-litres-thumb.webp)

![Мередит Рузью - Мертвецы не рассказывают сказки - Самая яркая звезда Севера [litres]](/books/407922/meredit-ruzyu-mertvecy-ne-rasskazyvayut-skazki-sam-thumb.webp)
![Джанет Эдвардс - Звезда Земли [litres]](/books/420293/dzhanet-edvards-zvezda-zemli-litres-thumb.webp)