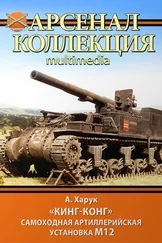— Сколько помню, твой папочка арахис не ел. И не говорил больше четырех-пяти слов в день. А значит, ты не только толще, но и языком треплешь чаще.
Он почувствовал, как кровь приливает к лицу.
— Разве дьякон обо мне не предупреждал?
— Нечего тут дерзить и сочинять воздушные замки про старого дьякона! Ты делаешь?
— А?
— Ты делаешь?
— Что делаю?
— Я задала вопрос, мистер. Ты делаешь?
— Послушайте-ка, мисс…
— Не дерзи, — гаркнула она. — Я задаю вопрос. Да или нет. Ты делаешь?
Он поднял палец, чтобы что-то сказать, как-то ее замедлить.
— Я здесь только пото…
— Сунь этот палец себе в карман и послушай сам, сынок! Приперся без банки сардин, без гостинцев, без миски бобов, даже стакан воды не подашь тому, кто готов помочь тебе даром. И еще даже не знаешь, выбьешь десяточку или нет. Ты как почти все белые. Веришь, что заслуживаешь то, к чему никаким боком не относишься. У всего в мире есть своя цена, мистер. Так вот, теперь сила не на твоей стороне, сэр, ведь я всю свою жизнь прожила, а тебя в упор не знаю. Может, ты итальянец, раз пришел в костюме, угвазданном вином. А с другой стороны, можешь оказаться каким-нибудь пронырливым никчемным проходимцем, что только прикидывается сыном мистера Гвидо. Я не знаю, зачем ты вообще пришел, мистер. Я и дьякона-то как следует не знаю. Он ничего не рассказал о тебе толком. Как и многие мужчины, он не верит, что должен объясняться с женщинами, даже со своей женой, которая ему долгие годы жарила, парила и волосы вычесывала, пока он только по округе околачивался да глаза свои бесстыжие заливал. Я сто четыре полных раза обошла вокруг солнца — и никто мне ничего не объяснял. Я целую книгу могу написать о том, как не объясняют. Вот что значит быть старой цветной, сэр. И теперь я спрашиваю вновь. В последний раз — и если ты мне сейчас не угодишь, можешь сунуть свои топалки в «Хаш Паппи» вместе с четвертаком на удачу и валить отсюда. Ты делаешь?
Он обреченно моргнул и взглянул на Мелиссу, а та — слава богу — тихо произнесла:
— Миссис Пол, он делает .
Сушеное лицо старушки — мешанина сморщенных сердитых рек — смягчилось, когда она обратила свою древнюю голову к Мелиссе.
— Вы его жена будете, мисс?
— Невеста. Собираемся пожениться.
Гнев старушенции поугас.
— Хмф. Что он за тип?
— Немногословный.
— Его папка тоже был немногословный. Уж точно говорил поменьше этого. На что тебе сдался такой неудачник? Ввалился сюда весь на кураже, вопросами пытает, будто он из полиции или какой ниспосланный Богом проповедник. Его папаша мне за всю жизнь задал только один вопрос. После — ни разу. Он тоже из таких, этот твой малый? Из тех, кто умеет постоять за свое слово? Из тех, кто делает, а потом об этом никому не говорит? Он говорит или делает ? Ну, что?
— Я надеюсь. Я так думаю. Посмотрим. Но мне все-таки кажется, он… делает.
— Ладушки. — Старушка казалась удовлетворенной. Она снова уставилась на Элефанти, но говорила все еще с Мелиссой, будто Элефанти не было в комнате. — Надеюсь, вы правы, мисс, ради вашего же блага. Если правы, то вам повезло. Ведь его папка слушал. Его папка не разбрасывался вопросами, не пыжился, не делал громких заявлений и не тыкал клешней, будто он экая шишка. Его папка ни в кого пальцем не тыкал. Он отдал нам эту церковь даром.
— Хотелось бы, чтобы и мне кто-нибудь подарил церковь, — сказала Мелисса.
Старушка вдруг вознегодовала. Впала в ярость. Вскинула голову, в бешенстве прожигая Мелиссу взглядом, потом внезапно откинулась и разразилась смехом — широко открыв рот и демонстрируя единственный пятнистый и гадкий старый зуб.
— Ха! А ты ничего, девочка!
И тогда Мелисса вступила в дело, сгладила обстановку, в следующие два часа заговорила старой крокодилице зубы, пока вся ее желчь не растворилась, не пропала без следа, раскрыв обитавшую под поверхностью добрую и чудную душу, пока она уже не делилась историей своей жизни и прошлого, изливала душевную музыку страданий, печалей и радостей черной женщины: о своем покойном супруге, о любимой дочери, что провела молодость за созданием церкви Пяти Концов и умерла четырнадцать лет назад. Благодаря задабриваниям Мелиссы сестра Пол прошла от своего начала на издольной ферме в Валли-Крик, штат Алабама, к северу от Кентукки, где она познакомилась с мужем, и до переезда в Нью-Йорк вслед за дочерью. Там муж услышал призыв учить людей Христовой мудрости, а когда сестра Пол дошла до рождения баптистской церкви Пяти Концов и до роли старого мистера Гвидо в постройке — и, конечно, до спрятанной им шкатулки, — она уже обращалась к ним обоим. Но одним этим ее речь не исчерпывалась, поскольку она раскрыла еще большее сокровище — старый Коз времен юности Элефанти, позабытый за годы тягот и трудов, вернула округу, которую он помнил с детства: где в воскресный день итальянские ребятишки играли на улице в «слона» и в «чай-чай-выручай»; где ирландские на Тринадцатой улице вышибали в стикболе розовые мячики на расстояние двух сточных канав; где еврейские на Дайкман хохотали, сбрасывая на прохожих наполненные водой воздушные шарики из окон многоквартирного здания с бакалейной лавкой на первом этаже, принадлежавшей их папе; где старые докеры — итальянцы, цветные и латиносы — спорили на трех языках о «Бруклин Доджерс», пока метали кости; и где, конечно, негры из Коз-Хаусес торопились в лучших воскресных нарядах в центр Бруклина, нервно посмеиваясь, когда Элефанти в свои подростковые годы выставлял себя перед ними на посмешище — пьяный, злой, угрожающий, на глазах негров ссал за припаркованной машиной, даже гонял по ночам их детей на Сильвер-стрит. Чем он думал? Тут он увидел себя, когда мать, узнав о его поведении, накинулась на него в ярости: беспутный paisan, переживает, что цветные, ирландцы, евреи — чужаки — вторгаются в наш квартал. Нет никакого нашего квартала, сказала она. Квартал не принадлежит итальянцам. Он никому не принадлежит. В Нью-Йорке королей нет. Только жизнь . Выживание. «Чем я думал?» — гадал он. Вот что делает с человеком любовь? Меняет? Позволяет отчетливо увидеть прошлое?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




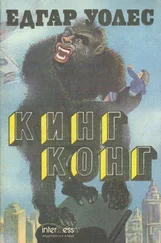

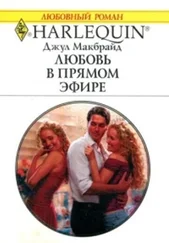


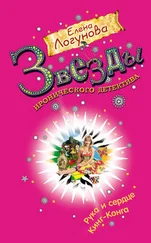
![Виржини Депант - Кинг-Конг-Теория [litres]](/books/394102/virzhini-depant-king-kong-teoriya-litres-thumb.webp)