А потом эта буря. И неожиданно-ожидаемое появление Лео. Отключение электричества. Лео. Чуть больше вина, чем надо (для нее), знакомые губы (его). Лео казался несколько подавленным. Она его рассмешила. Они поговорили. Он взял ее за запястья, обхватил их большим и указательным пальцами, притянул ее к себе (совсем как в тот первый вечер, когда их дружба стала чем-то еще, в тот вечер, когда он повернулся к ней в закрытой кабинке маленькой бургерной и сказал: «Я все думал, что у тебя под блузкой»), а потом провел в танце через кухню, в темноте, при луне, и поцеловал с таким намерением присвоить, что ей показалось, будто она сейчас воспламенится. Лео. Что еще было делать, когда погас свет – выл ветер, ломались и падали ветки, – кроме как разжечь огонь, дать ему снять ее свитер через голову, расстегнуть на ней джинсы и трахать до одурения под немигающим мраморным взглядом Лилиан.
Она еще раз взглянула на то, что написала. Ее четыре понятия. Надо будет поговорить с Лео, и очень скоро. Что бы он ни сказал, как бы ни отреагировал, решение оставалось за ней. Это принадлежало ей. Она сняла колпачок с ручки, вычеркнула «одинокая » и написала « мать ».
Выглядело не так и ужасно.
Когда Матильда, приходившая в себя в больнице, узнала, сколько денег получит от семьи Пламов, какие только фантазии ни приходили ей в голову – на что их потратить. (Она со стыдом вспоминала, что первой невольной мыслью была пара замшевых сапог, которые она вожделела, тех, до середины бедра; потом она вспомнила.) Она думала о поездках и одежде, о машинах и телевизорах с плоским экраном. Думала купить сестре собственный салон красоты, та всегда о нем мечтала. Думала, не оплатить ли матери развод.
Сотрудники клиники старались подготовить ее к грядущим расходам – не только на протез (а его еще надо будет менять раз в несколько лет) и разные связанные с ним медицинские вопросы и траты, но и на изменения, которые надо будет провести дома.
– Судя по описанию, условия жизни у вас не идеальные, – сказал один из соцработников. – Возможно, вам нужно будет их пересмотреть.
Матильда взяла финансовый опросник и кивнула, но слушать не слушала. В реабилитационном центре все казалось куда солнечнее, она была там немножко звездой, такая молодая, такая целеустремленная, упрямо жизнерадостная. Она всему быстро училась и была готова к выписке раньше большинства пациентов. Вернувшись в тесную квартирку родителей в Бронксе, Матильда начала понимать, с чем столкнулась.
Проблемы начались прямо у входной двери; она открывалась на три пролета грязной, неровной, покрытой рваным линолеумом лестницы, которая и в обычных-то обстоятельствах удручала, а на костылях была вовсе чудовищна и не стала лучше, когда был готов протез. В квартире слева от двери шел коридор, слишком узкий для коляски (коляска иногда была нужна, особенно по ночам), и коридор этот вел в единственную в квартире ванную и тесную кухню. Прямо, четырьмя ступеньками ниже, помещалась на другом уровне гостиная, в тринадцать лет казавшаяся двуногой Матильде верхом дизайнерской изысканности, а Матильда-с-одной-ногой теперь готова была рыдать из-за нее в отчаянии.
И были еще мамины украшательства, которые Матильда с сестрой называли «китчем с южной стороны границы»; разрозненные коврики из Мексики, цветные корзинки с тканью, крошечные колченогие столики, уставленные религиозными статуэтками, – теперь все это казалось продуманной попыткой ее убить. Мелочи, которые она раньше не замечала в квартире, увеличились в масштабах: унитаз был слишком низким, в душ надо было залезать через край опасно глубокой ванны, а поручней, чтобы ухватиться, не было – даже перекладины для полотенец.
Помимо физического неудобства и вопиющего недостатка уединения, который выматывал психологически, был еще и эмоциональный стресс из-за пребывания рядом с родителями. После аварии они были друг к другу непривычно добры, впервые за годы объединившись в тревоге и горе, но не давали Матильде покоя. Зорко следили за тем, как она перемещается по комнате, – мама, сжимая в руках четки, и отец, пытаясь смотреть в сторону.
Ей надо было оттуда выбираться.
Матильда верила не столько в бога, сколько в знаки. (Она знала, что ей был знак в вечер аварии, когда она сидела на переднем сиденье «Порше» Лео Плама: заходящее солнце блеснуло на его обручальном кольце, а она не обратила внимания, и вот теперь посмотрите – Господь отнял у нее правую ногу.) Каждое утро, едва проснувшись, она читала молитву; молилась о том, чтобы понять, что делать и где жить. Поэтому, увидев рекламный щит перед новеньким кондоминиумом на своей любимой улице, той, вдоль которой росли вишневые деревья, буйно расцветавшие по весне, она поняла: это и есть знак.
Читать дальше
![Синтия Д'Апри Суини Гнездо [litres] обложка книги](/books/436672/sintiya-d-apri-suini-gnezdo-litres-cover.webp)
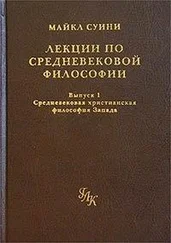
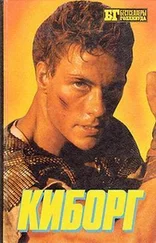
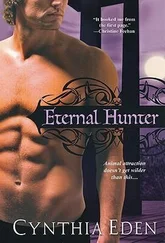

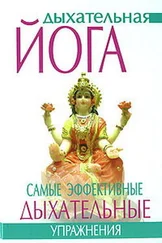
![Ширли Джексон - Птичье гнездо [litres]](/books/384355/shirli-dzhekson-ptiche-gnezdo-litres-thumb.webp)
![Синтия Хэнд - Свободная [litres]](/books/397664/sintiya-hend-svobodnaya-litres-thumb.webp)
![Синтия Хэнд - Священная [litres]](/books/399608/sintiya-hend-svyachennaya-litres-thumb.webp)
![Синтия Хэнд - Неземная [litres]](/books/403317/sintiya-hend-nezemnaya-litres-thumb.webp)
![Валерия Вербинина - Ласточкино гнездо [litres]](/books/413462/valeriya-verbinina-lastochkino-gnezdo-litres-thumb.webp)

