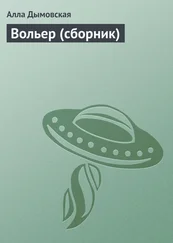Как счастливо эта нынешняя хамка включалась в игру, с каким святым простодушием не узнавала материнского голоса, плетущего ей всякую галиматью от имени «гномика», домотканного Оле Лукойе… За две недели – ни одного звонка. И не эти ли две недели, четырнадцать вечеров, замкнутых на выздоравливающую дочку, свободных от мук ожидания, четырнадцать вечеров изоляции в маленькой, теплой, полутемной комнате с клетчатыми обоями, с крошечной влажной ладошкой между ладоней – не они ли, начинала подозревать сейчас Нина, были самыми созидательными в ее разрушительной, неумелой жизни?
А через две недели она вышла на работу и в столовой все не могла взять в толк, что бормочет там между голубцами и компотом Гриша про какую-то Америку. «Грант, грант», – талдычил как заклинание, – Нина не улавливала смысла. Дети лейтенанта Гранта… Нина громко засмеялась своей шутке и оттолкнула стол. Компот расплескался, что-то опрокинулось, пролилось на колени…
Видали, родной отец на нее, мерзавку, не орал! И как долго-то не орал – без малого двенадцать лет.
Так и ревели практически каждый вечер, каждая на своем поле.
Этой ночью Лиза приняла решение.
– Акулина! Аку-ли-на! – Свинина, вероятно, уже несколько минут стояла рядом с ней, Лиза покосилась на толстые пальцы, стучавшие по плечу. – Ты, может, поделишься с нами, что тебе там так увлекательно? Свинина простерла ладонь к окну, по направлению пустого Лизиного взгляда.
Свинина вся состояла из отталкивающих привычек. Сидя за своим столом, она поочередно вынимала ноги из туфель и шевелила пальцами. С Лизиного места хорошо были видны линялые подошвы толстых ношеных чулок, и Лизе казалось, что она различает даже гниловатый запах, распространяемый этими освобожденными пятками. Свинина любила, высоко поднимая руки, перекалывать шпильки в жидком пучке и в жаркую погоду надолго распахивала на общее обозрение небритые мясистые подмышки. Лиза отворачивала лицо, незаметно принюхиваясь к себе: не несет ли чесночным потом также и от нее, маниакальной чистюли. Свинина ковыряла облезлым ногтем в зубах, далеко засовывая в рот пальцы. И изо рта у нее разило. Теребила родинку на длинном стебле у себя на коренастой шее. Переходила то и дело с «ты» на «вы». Отхаркивалась в умывальник. Ногтями одной руки вычищала грязь из-под ногтей другой. Существительное «волосы» употребляла в единственном числе, зато «погода» – во множественном. И ко всему еще преподавала биологию – всех этих червей и паразитов!
Боже мой, как ненавидела Лиза Акулина вонючее убожество жизни, отзвуки которого то и дело обнаруживала у себя дома: в струе тухлятины из холодильника, в сопливой зелени на потолке, в обвисшем телефонном кабеле, в битом телефоне, в обоях, размалеванных ею самой десять лет назад и до сих пор не переклеенных, в ржавчине, ползущей из-под облупленной эмали по ванне, в вытертом до основы ковре, в текущем кране, в надтреснутых фарфоровых кружках, когда-то привезенных счастливой Настей из Америки… Из Америки!
– Пора бы взяться за ум, Акулина. Когда вы намерены…
– Начать заниматься? – Лиза невинно вытаращила поверх очков свои и без того плошки и захлопала наглядными пособиями ресниц. Свинина подозрительно оглядела класс.
– Не вижу ничего веселого. Через год – в высшую школу. На что надеемся, а? Полюбуйтесь на эти прически!
Свинина протянула руку над Лизиной головой (обдав ненавистной чесночной волной) и ухватила Настю Берестову за пегую прядь.
– Без рук, – отпрянула Настя, восхитительная девица, курящая только ментоловый Salem и вызывающая в Лизе рабский трепет высоко подбритым затылком, рвано выстриженными пестрыми волосами, четырьмя серьгами в одном ухе и недавним абортом.
– Вы же девушки! – упорствовала в своем заблуждении Свинина. – Что за пакля у вас на голове, Берестова! Сама хоть помнишь, какого цвета у тебя волос? Еще в нос серьгу вденьте! Ишь, вырядилась, вся задница наружу! Форменная мартышка!
Настя лениво смахнула в сумку Voyage зеркальце, помаду, а также уступку среднему образованию – клочок с какими-то каракулями и бросила на ходу, не оборачиваясь (чуть с большей, чем обычно, амплитудой шевеля оживленным тазобедренным участком): «Мылись бы почаще, Раиса Вениаминовна (Раиссвининна). А за оскорбление личности папа подаст на вас в суд». И выплыла.
Захлебываясь от солидарности, Лиза Акулина с воплем: «Настька, меня погоди!» – выскочила следом.
Прошли маленький двор, и Настя постучала в зарешеченное окошко флигеля.
Читать дальше
![Алла Боссарт Холера [сборник] обложка книги](/books/436492/alla-bossart-holera-sbornik-cover.webp)