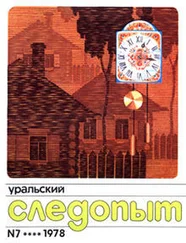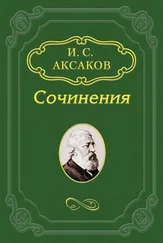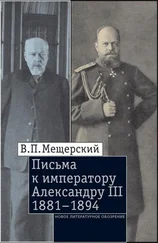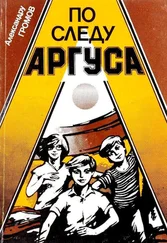Сын обратил внимание на эту перемену и сделал к матери еще один шаг, Григоре встал с кресла, и Пауль Дунка тяжело опустился на его место.
— Позвоню-ка я, чтобы накрыли к ужину. Думаю, ты голоден, — сказала старуха.
— Ничуть, я ел в городе. Но если хочешь, могу тоже посидеть за столом.
Старуха живо поднялась, прошла мимо него, едва его не задев, и дернула за шнур звонка. Служанка, одетая в крестьянское платье (обычай новый, введенный старухой в последнее время — раньше служанки одевались по-городскому, в некое подобие униформы), появилась через несколько мгновений. Старуха сказала высоким и энергичным голосом:
— Вели Корнелии накрывать на стол. Да на большой, на тот, что в столовой.
Они давно уже — почти со смерти старого Дунки — не ели в этой просторной темной зале (окна ее выходили не на улицу, а на веранду). Пауль Дунка редко обедал дома, и уж если обедал, то один, в своем кабинете, а старуха — в своей комнате, иногда с Григоре, а то, случалось, и забудет про него, и тогда он управлялся сам: ел где-нибудь на кухне, впрочем, на кухне ему даже больше нравилось — там его потчевала Корнелия, толстая, страдавшая подагрой пьяница-повариха: была она малость с придурью и большая фантазерка. Когда же случалось всей семье есть вместе, стол накрывали здесь, в светлой комнате, и трапеза была отнюдь не торжественная. Поэтому новое приказание удивило всех, и служанка в недоумении осталась стоять в проеме дверей. Но перечить было нельзя, и она ушла, пожимая плечами.
— Что случилось, мама, что́ ты решила отпраздновать? — спросил Пауль ровным голосом — таким голосом он давно не разговаривал дома. — Скажи, что такое случилось?
— Ничего не случилось. Ты пришел домой, может быть, усталый, вот и хорошо нам всем поесть вместе, как полагается.
— Но я же сказал, что ел в городе. Если хочешь знать — вот тебе: я ел с Карликом, да, да, я ел с Карликом, героем дня, героем этих дней.
Старуха промолчала — словно бы и не слышала, и на имя Карлика, как обычно, не прореагировала.
Пауль пожал плечами, встал с кресла и принялся мерить шагами комнату. Потом сказал:
— Делай как знаешь, но я тебя ни о чем не просил и ничего не хочу менять.
Стол был накрыт в большой столовой со всей возможной пышностью — тяжелое серебро сверкало на скатерти голландского полотна. Казалось, здесь ожидали гостей — пустые стулья с кожаными спинками разделяли трех участников трапезы. Слева от старухи пустовал стул старого Дунки, умершего четыре года назад, сама же она, высокая и неподвижная, сидела во главе стола. Невесть откуда налетевший сквозняк колебал хрустальные подвески канделябров, и пламя свечей бликами падало на стол.
Со стены из-под красной шапки прелата глядел на них дядюшка — владыка, и лицо его было необычно сурово. На портрете у д-ра Т. М. глаза смотрели в сторону. Григоре пугала эта комната, он не любил ее из-за смутных воспоминаний о тех временах, когда в большой столовой у деда собирались гости, степенные и важные господа, — теперь они давно не переступали порога этого дома, а может, уже и умерли. Он всегда проходил через нее поспешно, на цыпочках, с каким-то испугом, словно кто-то подстерегал его здесь. В этой комнате всегда было темно, занавеси окон, выходящих на веранду, опущены. Запах двустворчатых высоких дверей, выкрашенных желтой краской, не выветривался в течение десятилетий, будто их только что заново покрасили.
Старуха встала, отперла верхнюю дверцу высокого буфета и, вынув бутылку черничной наливки, поставила ее на стол. Потом разлила черную жидкость в три маленькие серебряные рюмочки с ее монограммой под короной из пяти зубьев — знак их старинного и скромного достоинства в исчезнувшем мире. Она подняла свою рюмку и чокнулась с сыном, потом энергично, по-мужски опрокинула ее.
Сама Корнелия явилась, чтобы прислуживать за столом, и лицо ее было радостно и даже покраснело от удовольствия и возбуждения, словно вернулись те славные времена, когда по окончании трапезы гости хвалили ее.
Пауль Дунка ел без аппетита, по принуждению, тем не менее послушно опустошал тарелку и не протестовал, даже когда ему подкладывали. Он озирался по сторонам, украдкой бросая взгляд на матушку, и молча продолжал есть. Потом поднял рюмку с черничной настойкой (изготовленной, как всегда, старухой собственноручно) и попросил разрешения выпить еще.
— Конечно. И мне тоже налей.
Но разговор не клеился, и потому застолье было в самом деле странное, почти невыносимое, несмотря на бодрый вид старухи. Наконец Пауль Дунка не выдержал:
Читать дальше