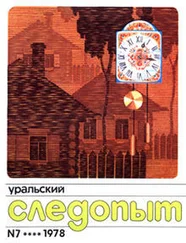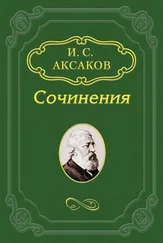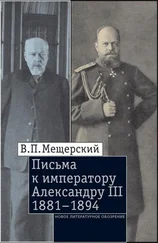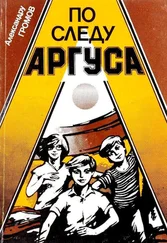— Интересно, товарищ Ланга. — (На этот раз он принял ее всерьез, в голосе появился металл.) — Следовательно, вы считаете, что партия совершила ошибку, вступив в союз с другими силами и создав блок из демократических партий?
— Не знаю. Я этого не говорила. В других местах, возможно, все идет иначе, но здесь у Флореску нет никакого авторитета, и он в сговоре с бандитами.
— А наш край не связан с остальной страной, с общими условиями? Разве мы идем с Флореску, просто с человеком по имени Флореску, а не с его партией и с другими партиями? И международное положение не в счет? Может быть, вы не знаете, но в наш город приехал или приезжает, как мне доложили, господин Уорнер, знаменитый журналист, который раззвонит на весь мир: «Беспорядки и мятежи, спровоцированные коммунистами!»
— Плевать мне на этого господина! — воскликнула Катя.
— Ему также плевать на вас, если говорить начистоту. А нас это касается, да еще как! Товарищи, — обратился он к членам бюро, — я лично считаю, что генеральная линия нашей политики правильна. Я много думал над этим и выскажу свою мысль. Некоторые социальные слои, колеблющиеся или противящиеся, предпочитают покупать яйца подороже, лишь бы не менять образ жизни, весь свой уклад.
— А мы, — крикнула Катя, — разве мы не хотим изменить жизнь людей? Разве мы не делаем революцию?
На этот раз Софронич не улыбнулся: ни презрительно, ни злобно. Лицо его не покрылось красными пятнами, а стало лишь бледней, и ответ прозвучал сурово, словно произнесенный другим голосом:
— Да, мы хотим изменить жизнь, и радикальным образом! Но это не должно быть известно всем и каждому. Когда они осознают это, будет поздно. Господин Татареску — министр иностранных дел. Он будет нас представлять на мирной конференции в Париже, там он встретит своих старых знакомцев, с которыми уже вел переговоры. Все будет выглядеть вполне естественно. Пусть весь мир узнает, что все социальные слои населения участвуют в реконструкции страны. А там увидим! Мой принцип (а он не только мой) таков: не раскрывать наши намерения раньше времени. Меня не интересует ни Месешан, ни Флореску, а Татареску. И даже не Татареску, а его друзья из других стран, и не бедняга Леордян, а весь рабочий класс. То, что произошло на вокзале, — это, по моему мнению, несчастный случай. Мы же занимаемся не происшествиями, а политикой. Мы политические работники. И когда настанет время, будем судить и Месешана, и Флореску, и, если понадобится, как раз за несчастный случай на вокзале.
Софронич умолк и глянул куда-то поверх голов собравшихся за столом людей, явно взволнованных его речью, такой необычной для подобных заседаний. И он сам чувствовал нечто вроде сожаления, что так разоткровенничался. И чтоб как-то сгладить впечатление, добавил:
— Кое-кто из вас, возможно, подумает, что я так круто повернул не потому, что у нас с товарищем Дэнкушем имеются разногласия, а потому, что я лично настроен против него. Это заблуждение, лично я не имею ничего против кого бы то ни было из вас. Но между нами существуют разногласия потому, что мы по-разному смотрим на вещи. Я, скажу для ясности, вступил в партию, потому что у нее научная идеология, которая позволяет мне ясно видеть все и далеко заглядывать вперед. На ее стороне исторические законы. В этом суть. Мы никогда не разрешим мировых проблем, если будем спотыкаться на бесчисленных частных случаях, попадающихся на нашем пути. Я знаю, что товарищ Дэнкуш — хороший человек и товарищ Катя — хорошая и слишком добрая. Но если мы примем доброту за главное, мы все превратимся в христиан, и все проблемы будут разрешены лишь там, на том свете.
Дэнкуш напряженно слушал перепалку между Софроничем и Катей. Истина была то на одной, то на другой стороне, и он не мог не восхищаться железной логикой, широкими перспективами, обрисованными Софроничем, который сейчас предстал перед ним в другом свете. До сих пор он считал его просто сухим человеком, подозрительным, грубоватым, с узким кругозором, догматиком и формалистом. А теперь понял, что это не так, что суровость происходит не от узости взглядов, а как раз наоборот, от большой гибкости, от умения глядеть вперед. Человек, подобный Софроничу, — в чем-то догматик, действительно отказывается от широты взглядов, но противоположностью широте не обязательно является узость, есть еще высота, взгляд сверху, взгляд издалека. Софроничем нельзя пренебрегать, его речь представляла немалый интерес, так же как и его призыв к дисциплине, это не только приспособленчество. В этом была своя логика.
Читать дальше