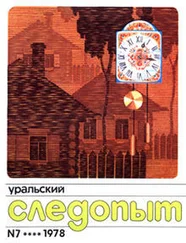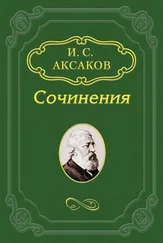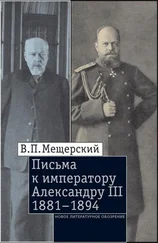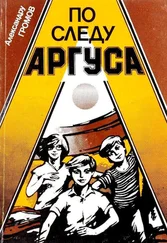— Товарищ! — завопил в трубку Дэнкуш. — Дайте мне объяснить. На улицы вышли тысячи людей… Собрались еще с ночи на вокзале, я не мог остаться в стороне…
— Пойдите и отошлите всех по домам. У нас есть законы, которые нужно уважать. Поняли меня, нет?
Дэнкуш не знал, что ответить, и услышал короткие гудки. Он опустился на стул и обхватил голову руками.
Администратор зала «Редута» тихонько вошел и, увидев его в таком состоянии, спросил:
— Что-нибудь серьезное?
— Нет-нет, — ответил Дэнкуш, — ничего серьезного. — И резко встал, словно пробуждаясь, возвращаясь к бьющей ключом жизни, у которой всегда есть граница, хоть и подвижная, между возможным и невозможным, между тем, что желательно и что осуществимо. — Нет-нет, ничего особенного, — повторил он, стараясь выйти, из состояния растерянности и убедить себя самого, что ничего не произошло.
Однако произошло нечто новое, непривычное и весьма серьезное. Впервые ему резко возразили, лично ему возразили приказом сверху именно те люди, которых он не только уважал, но которым доверял целиком и полностью. Он связал с ними всю свою сознательную жизнь, ту жизнь, которую еще предстояло прожить, и прожить в соответствии с его преданностью общему делу, идеалам, еще не осуществленным, требующим выстраданного опыта, поисков и решений на каждом шагу.
«Не поняли, — подумал он. — Не поняли. Если бы они были здесь, они поняли бы». Значит, дело в том, что он не успел, не сумел объяснить. Сам виноват, что не так объяснил. Перед глазами его возникали недавние образы: Ион Леордян, лежавший на столе, торжественный почетный караул, колеблющиеся огоньки маневренных фонарей, молчаливый народ, ждущий на улице, — людей он видел через запотевшие стекла очков, — все это вперемежку с отдаленными воспоминаниями об утренних пробуждениях в интернате, криках директора и педагогов, боли и стыде от ударов прутьями по ладоням. И грубое лицо Месешана в кабинете префекта, и теперешнее чувство собственного унижения: пусть всего на минуту, но победил этот убийца, похожий на гориллу.
Дэнкуш стоял во весь рост перед этим то ли директором, то ли администратором зала «Редута» и машинально повторял: «Ничего, решительно ничего не случилось», но он знал, что народ ждал от него новостей, никто не сомневается, что речь идет о чем-то очень важном, раз прямо с собрания его срочно вызвали к телефону. Что ему сказать? Что вышестоящие власти наведут порядок, восстановят справедливость? Оттуда, из Бухареста, легко такое говорить, а здесь, разве сам он доверял местным властям? Верил ли он, что этот префект или Месешан, уже скомпрометированный и теперь, после очередного преступления, ставший более осторожным, — что они будут по-настоящему заботиться о восстановлении справедливости? Мог ли он сказать этим сотням и тысячам людей, собравшимся, чтобы выслушать его, то, во что сам не верил и ни в коем случае не поверят и они? Но тогда от чьего имени он выступает: от их имени, от себя или от товарищей из Бухареста, программой которых он без оговорок руководствуется?
Кто он, чьим авторитетом осенен, почему слушают его, а не кого-нибудь другого? Кем он уполномочен? Он не сомневался, что обладает властью не лично, а благодаря организации, благодаря партии, которая дала ему уверенность и силу и которую он здесь представляет. Это не с ним, Иоаном Дэнкушем, учителем сорока лет, рожденным в селе Кубя, не с ним разговаривали префект, прокурор, квестор, Месешан; не его призвали и слушали эти люди, а представителя самой могущественной силы в коалиции, которая теперь была у власти! Но те, кто поручил ему ответственное дело, без кого он был бы просто скромным человеком, не знали положения вещей на месте, не поняли его, рассматривали происходящее здесь в ином масштабе.
Как объяснить собравшимся в зале, что произошло? Пойти и крикнуть:
— Те, кого я представляю перед вами здесь, говорят вам: «Идите домой, доверьтесь властям, тем властям, к которым и я и вы не имеем ни капли доверия?!»
В каком свете выставит он партийное руководство перед народом, который тут же обвинит товарищей в том, что они играют на руку спекулянтам, обвинит в непонимании народных нужд? Он не мог сделать этого, не мог из-за какого-то недоразумения слепо отказаться от всего, во что верил. Это его вина, что не сумел объяснить всего и с самого начала не испросил разрешения действовать. Он один был виновен во всем, но как это сказать людям? Разве их вина, что он не смог объяснить положение? Если бы он мог сообщить им хотя бы то, что законные власти восстановят справедливость, что Месешана, хотя бы одного Месешана, выгонят вон, отстранят, пока не закончится следствие! Но даже этого он не мог сказать. Ему было приказано не вмешиваться.
Читать дальше