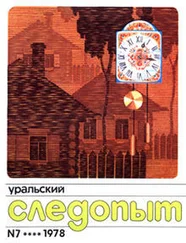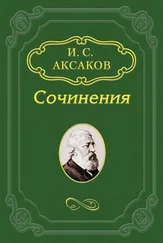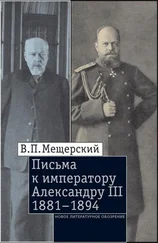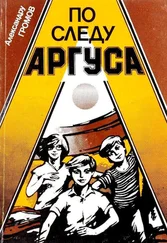А если он ошибся и в другом? В конце концов, зачем он собрал весь этот народ? Что эти люди могли сделать? Самостийно восстановить справедливость? Невооруженные, голыми руками штурмовать бандитское гнездо, рисковать жизнью? Или атаковать полицию и префектуру, взять в свои руки власть, которую, как он считал, они завоевали? Конечно, не об этом шла речь, но тот товарищ так и сказал: «Ты что, перешел в оппозицию?» Если бы хоть слово поддержки — тогда другое дело. Но нет, ничего похожего. Его выбранили, и, вполне возможно, по заслугам.
В эти минуты Дэнкуш переживал такую же драму, как и многие другие активисты, которые чувствовали, что представляют партию и что их полномочия, придавая им силу, в то же время ограничивают их. Драма их выражалась, по крайней мере поначалу, в самообвинении, они старались обнаружить личную оплошность в действиях, совершенных с полной преданностью делу. К этому примешивалось подчас и ощущение одиночества, даже если их мнение разделялось десятками и сотнями тысяч людей, а другого мнения держались лишь несколько человек — скажем, в центре, — зато этим нескольким они безгранично доверяли. В такой критический миг они чувствовали себя отъединенными даже в любом тесном людском окружении, потому что спасением от одиночества для них была только партия, а не людское множество, организация, а не просто массы. Они чувствовали себя одинокими, виноватыми и одновременно — непонятыми.
Точно так же и Дэнкуш, повторяя фразу «Ничего, решительно ничего не случилось», чувствовал себя глубоко виноватым и в то же время не мог признать за собой никакой вины.
Как бы там ни было, он не мог бесконечно стоять здесь. Народ ждал его там, в зале, и он направился в зал, так ничего и не придумав, надеясь на миг вдохновения, который выведет его из тупика, прояснит мысли, поможет найти верный выход.
Неувязка действительно существовала, как в каждом случае, когда меняется перспектива при переходе от взгляда «с места» к хладнокровному и отвлеченному суждению «сверху», которое охватывает в целом пространство действия стратегии и тактики.
Войдя в зал, Дэнкуш острее, чем когда-либо, почувствовал ожидание устремленных на него глаз.
Оратор, который говорил скорее для того, чтобы скоротать время, сразу умолк и сел на место. В зале воцарилась мертвая тишина, и Дэнкуш медленно, очень медленно приблизился к столу и оглядел собравшихся. Потом очнулся и произнес как раз те слова, которые были ему сказаны по телефону, были ему продиктованы для того, чтобы он произнес их здесь. Он повторил все, слово в слово, слыша голос товарища из Бухареста.
— Товарищи, — закончил он. — Правительство обеспечит правосудие. Мы не в оппозиции, власть в наших руках, и мы в точности должны соблюдать законы.
И тут же ясно понял, что его слова никого в зале не убедили. Кто-то закричал с места:
— А как же с Месешаном? Разве не полиция убила Строблю?
Дэнкуш прямо не ответил на вопрос. На сей раз сердитый голос из телефонной трубки дополнился другим, внутренним голосом, его собственным.
— Товарищи, — сказал он, утверждая свое кредо перед залом и перед самим собой, — товарищи, наша партия хочет ликвидировать не только Карлика, не только Месешана, но только нескольких спекулянтов, а вообще эксплуатацию человека человеком. Но для этого мы должны поддерживать нашу власть, поддерживать ее твердо и безоговорочно, не упускать ее, использовать все законные пути, все механизмы, через которые мы можем осуществить нашу программу.
Он продолжал в этом роде минут десять — пятнадцать, говоря горячо, чуть ли не патетическим тоном.
Что-то произошло, было ясно: этого человека, который открывал свою душу, рассказывая о том, как он примкнул к движению, к партии и ее идеологии, не пряча от них ничего, — этого человека что-то глубоко взволновало, раз он почувствовал необходимость горячо высказаться перед ними.
Они слушали его растерянно, с любопытством и как бы смущенно. Дэнкуш рассказал им, как был арестован, как шло следствие, говорил о тюрьме, о тамошней атмосфере. Что он перенес и почему смог перенести, что его укрепляло и что поддерживало. Он говорил об этом еще минут пятнадцать и, по мере того как говорил, избавлялся от неясности. Да, он допустил оплошность, поторопился, товарищи «сверху» были правы, а он был неправ. И никак не мог остановиться и говорил бы так еще долго, если б его не прервали.
Сцепщик вагонов Георге — вокзальный мудрец, взявший на себя защиту Леордяна, когда тот получил шинель от механика, причастного к перевозкам Карлика, — встал, подняв руку. Дэнкуш не замечал его и продолжал говорить, пока несколько железнодорожников, которые хорошо знали Георге, не закричали:
Читать дальше