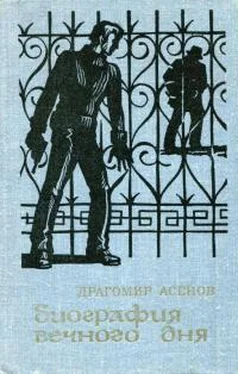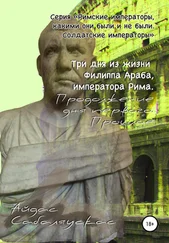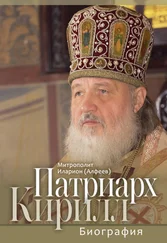— Я им не кум и не сват, наняли меня на целые сутки и платят по-царски.
Кабриолет быстро сокращает расстояние до беглеца, жилистого долговязого парня в хлопчатобумажном костюме с белой повязкой на рукаве, на которой краснеет какое-то пятно, вероятно буквы ОФ.
— Стой! Стрелять буду! — горланит Кузман, пытаясь справиться с оружием и с вожжами.
Но первым стреляет не он, а долговязый, пуля свистит у самого уха Кузмана, затем вторая.
— Сволочь! — стонущим голосом роняет Кузман, ощутив, как что-то горячее лизнуло его плечо.
Долговязый бросает в сторону пистолет, как видно оставшийся без патронов, пересекает улицу и взлетает над сваренным из труб парапетом. Кузман цепенеет — под ногами у беглеца зияет пропасть глубиной по меньшей мере пять метров, образуемая гранитной стеной, а внизу тянутся рельсы к Южному вокзалу. Остановив лошадей, Кузман повисает над парапетом — долговязый, хромая, бежит по шпалам.
«Дьявол!» — с трудом подавляет свое восхищение Кузман и снова кричит:
— Стой! Стрелять буду!
Долговязый оборачивается, вскидывает руку и показывает ему кукиш. Кузман нажимает на курок — спокойно, твердой рукой, жертва в западне, деваться некуда, по одну сторону каменный обрыв, а по другую — река. Слегка покачнувшись, долговязый садится на корточки, а на него с бешеной скоростью летит вагон, появившийся внезапно, словно привидение. Над притихшими дворами, над плещущимися водами реки раздается страшный вопль:
— А-а-а-а!..
Смеркается, день близится к концу. К резкой вони от прелой соломы и мочи примешивается тяжелый запах сырой штукатурки и плесени, где-то уныло жужжит муха. Двое незнакомых забились в угол и как будто дремлют, а учитель гимнастики торчит у зарешеченного окошка, темного от паутины и грязи, и время от времени тяжело вздыхает.
— До чего мы дожили!.. До чего дожили!..
Николай притих в самом темном углу подвала, ему не хочется, чтоб его здесь узнали — каково было бы удивление вот этого, что торчит у окошка, пойми он, кто сюда угодил в качестве четвертого арестанта! Впрочем, когда Николая привели и втолкнули в подвал, учитель гимнастики подошел к нему, присел на корточки и стал пытливо его разглядывать.
— И вас? — прошептал он.
— И меня, — неопределенно ответил Николай.
— Дома накрыли?
— Дома.
— Так нам и надо, коли мы такие разини… Как вас зовут?
Николай отходит подальше от света, струящегося сквозь мутные стекла. Учитель гимнастики выпрямляется и опять уходит к окошку, цедя сквозь зубы:
— Надо было раньше думать, где найти прибежище.
— Какое прибежище, какое прибежище? — еле ворочает языком пьяный. — Я не фашист, я из народа!
— Замолчи! — осаживает его другой.
— Не стану молчать! Как они смеют, почему они себе позволяют!.. Ты-то знаешь, что я давал Крачунову деньги не затем, чтобы… Я давал ему взаймы…
— Замолчи, тебе говорят!
Пьяный крепко выругался, поднял воротник (когда за ним пришли, он благоразумно напялил зимнее пальто) и притих, а его сосед заплакал, закрыв руками лицо.
Но вот, после продолжительной паузы, учитель гимнастики вновь подступает к Николаю — ему не терпится поговорить с кем-нибудь, поделиться своими тревогами, — но нарывается на его гневный отказ:
— Довольно, у нас с вами нет ничего общего!
— Ха, и вы не фашист?
— Нет!
Учитель гимнастики гадливо усмехается.
— Отрекаетесь! От всего отрекаетесь, неразумные болгары!
Николай чувствует, как его охватывает ужас, мало-помалу он овладевает всеми его клетками, подбираясь к самому сердцу, — уже знакомый ему ужас неотвратимости, полного бессилия перед стихией. Он не забыл и никогда не забудет того, что пережил во время пожара в кинотеатре «Одеон» — пожар начался в зале во время сеанса (показывали какой-то английский фильм, где туземцы охотились на диких зверей в джунглях). Огонь вспыхнул совершенно неожиданно, весь зал моментально заволокло дымом, языки пламени шипели, словно стоглавый змей. С балкона, из четырех лож и из партера понеслись дикие крики, вопли женщин и детей, стоны отчаяния:
— Погибаем!
— Ломайте боковые двери!
— Бегите! Бегите!
Николай находился в передних, дешевых рядах, но не сдвинулся с места, у него не было сил даже пошевельнуться, а вокруг стоял неистовый крик, перед его глазами, как в тумане, сменялись сцены панического страха. Белое полотно экрана сгорело в одну секунду, за экраном тотчас же охватило огнем всю сцену; левый барьер балкона, уже обуглившийся, рухнул в зал, придавив какую-то девочку. А Николай по-прежнему не двигался с места, будучи не в состоянии выйти из оцепенения и вырваться из ада в солнечный день, в прохладу зеленых деревьев, чьи очертания маняще вырисовывались в проломах стен. Он опомнился лишь после того, как услышал колокольчики пожарных машин, и выбрался наружу, почти не пострадав — пламя слегка опалило ему чуб да прожгло штаны в нескольких местах. Мать не знала, что он в кино, да и о пожаре ничего не слышала, но, когда увидела его, испуганно охнула и упала на лавку. Он старался ее успокоить, утешить, но затем его самого стало трясти от сознания, что он чудом избежал смертельной опасности. Потом его опять сковало оцепенение — долго ни на что не реагировал, чувствовал себя опустошенным. Но его сознание все-таки работало, он вновь и вновь пытался проанализировать случившееся. Что представлялось ему самым главным? Ужас! Ужас оттого, что ты беспомощен, что пассивно дожидаешься гибели, на которую тебя обрекла какая-то слепая сила.
Читать дальше